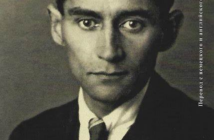Пролог опубликован 15 мая : https://nizinew.com/almanah/vospominaniya/fragmenty-iz-romana-dekan.html
Часть первая
Таёжный Боливар
Глава 1. Корни
1.1
В июне 1939 года из посёлка Уренгой, бывшей ненецкой фактории, вышла группа людей под руководством старшего оперуполномоченного Колоскова. Маршрут, проложенный им по карте напрямую от Уренгоя до излучины реки Мессояха, где они должны были встретиться с головным отрядом, вышедшим из Норильска, составлял приблизительно 350 километров. Это расстояние, с учётом неизвестной местности и погодных условий, Колосков предполагал преодолеть со своими людьми за десять дней. Места, куда направлялась группа, сочетали в себе таёжно-тундровый ландшафт и пользовались плохой репутацией. Недаром Уренгой, означает в переводе «гиблое место». Карликовые берёзки и ржавая вода в озёрах – из-за большого содержания в почве железа – вот и вся природа. Под ногами сплошной мох, зыбко проседающий при каждом шаге.
Группа состояла, не считая самого Колоскова, из 10 человек: шестеро заключённых, два солдата внутренних войск и двое вольнонаёмных рабочих. Каждый нёс на себе примерно 30 килограммов груза неизвестного назначения. Заключённые прибыли в Уренгой по особому распоряжению из разных лагерей ГУЛАГа. В отношении них Колосков не получил от начальства особых указаний (кроме данных о том, что все они политические и каждый является каким-то техническим специалистом), а потому не вводил по отношению к ним никаких ограничений: все ели из одного котла и спали в одной палатке. На ночь, тем не менее, выставлял охрану, хотя и понимал, что заключённые никуда не убегут.
Не знал старший оперуполномоченный и какая конечная задача стоит перед его объединённым отрядом, но – судя по облегчённому режиму содержания заключённых – задача эта, очевидно, была особой государственной важности.
На шестой день пути случилось непредвиденное: один из заключённых – Воронов – оступился и, по всей видимости, сломал в подъёме ногу. Ступня сразу распухла так, что не влезала в ботинок. Воронов попробовал двигаться без обуви, но страшная боль всё равно не давала ступить ни шагу. Сначала Колосков поручил одному из охранников найти хорошую палку и сделать из неё удобный костыль для заключённого. Однако костыль глубоко уходил в болотистую почву, и каждый раз требовались большие усилия, чтобы вытащить его обратно. Это серьёзно замедляло движение всей группы.
До места встречи с основным отрядом оставалось ещё более ста километров. Опаздывать было ни в коем случае нельзя, поэтому утром следующего дня, перед выходом на маршрут, Колосков объявил своё решение:
– Группа продолжает движение по намеченному графику. Заключённый Воронов и конвоир Семёнов догоняют нас в темпе, позволяющем двигаться заключённому. Вопросы есть?
– Есть.
– Задавайте, рядовой Семёнов.
– А как нам знать, куда вы пошли?
– Ориентир нашего движения – зарубки на деревьях. Мы будем их делать через каждые пятьдесят метров. Провианта оставляю вам на четыре дня. Больше не понадобится, чтобы догнать нас и выйти на точку встречи с основным отрядом.
1.2
Через несколько километров тайга сменилась тундрой. Вместо деревьев пошёл сплошной кустарник. На некоторых участках, кроме мха, вообще ничего не было, и заключённому Воронову с конвоиром Семёновым стало ясно, что на след своей группы они выйти уже не смогут. К вечеру нашли более или менее сухое место и остановились на ночлег. Трудно было сказать, сколько они прошли за день, но явно не более десяти километров. Опухоль на ноге у заключённого не спадала, а только увеличилась по сравнению со вчерашним днём. Было ясно, что при движении, ни о каком улучшении не может быть речи. Чтобы нога заживала, больному требуется длительное состояние покоя.
Разожгли костёр, очень скромно поели.
– Боливар не выдержит двоих, – вдруг произнёс Воронов.
– Что вы сказали? – настороженно спросил Семёнов.
– Это из О. Генри. Есть у него такой рассказ – «Дороги, которые мы выбираем». Я имею в виду, что вы должны оставить меня здесь и идти дальше догонять своих. Вдвоём у нас ничего не получится. Если мы даже и догоним их, то очень нескоро. А продуктов у нас осталось только на три дня. Так что картина безрадостная.
– А кто такой Боливар?
– Это конь – ценное средство передвижения в критической ситуации.
– Не надо так говорить. Бросить вас я не могу – меня командир назначил в наряд. А люди увидят, что нас нет, и вернутся за нами. Я думаю, что всё будет хорошо.
Воронов внимательно посмотрел на своего охранника. Молодой наивный парень. Совершенно невыразительное лицо: увидишь такого – на следующий день и не вспомнишь. Наверное, из какой-нибудь глухой деревни, где люди ещё верят в человеческую доброту и порядочность, а всех старших называют на «вы».
– Как вас звать? – спросил Воронов.
– Семёнов я. Николай. Девятнадцати лет отроду. Призван в армию в прошлом году из Олонецкого района Карельской автономной республики, – поторопился всё сразу сообщить о себе конвоир.
– В вашем районе все так же хорошо, как и вы, говорят по-русски?
– Да, все. Некоторые ещё и на финском, если принято в семье. А зачем вы меня об этом спрашиваете?
– Дело в том, что мой жизненный опыт подсказывает, что вместе нам придётся провести не один день.
– Приказываю отставить вредные разговоры! Без паники.
– Да нет никакой паники. Просто реальность, и больше ничего.
– Прекратить эти разговоры! – повторил конвойный, но уже без особой уверенности добавил: – Я за вас сейчас отвечаю и не имею права поддерживать пораженческие настроения.
Оба замолчали. Каждый думал о своём, но, по сути, об одном и том же: остаться в незнакомом месте без карты, а главное, без какого-либо инструмента, чтоб хотя бы элементарно обустроиться, было смерти подобно. Да ещё и провиант заканчивается.
Первым затянувшееся молчание нарушил Воронов:
– Думаю, что нам с этого места двигаться никуда не следует. Если Колосков будет нас искать, ему проще будет вернуться по своим же следам. А если мы уйдём с маршрута, нас вообще не найдут.
– Что-то не то вы предлагаете. Вам случалось плутать в глухих местах? Опыт есть?
– К сожалению, нет.
– А у меня есть. Я с отцом много ходил по таким лесам. Всяко было. Кстати, вас как звать?
– Заключённый Воронов, статья 58-я, часть 2-я.
– Самая вражья статья, а вы ещё советы даёте! – строго заметил конвойный.
– Хорошо, больше ничего предлагать не буду. Давайте лучше я расскажу немного о себе, чтобы скоротать время?
– А по имени-отчеству-то вас как? – уже примирительно спросил Семёнов.
– Александр Николаевич.
– Ну, рассказывайте, пока я вам лапти сплету. В них удобней по трясине ходить.
– Тогда слушайте. Что будет непонятно – спрашивайте. С удо-вольствием всё объясню.
1.3
В 1933 году Натан Захарович Соловьёв приехал в Ростов-на-Дону из Иркутска в командировку. В поезде его крепко продуло, и он обратился в районную поликлинику с высокой температурой, где ему первую помощь оказала молодой врач Елена Степановна Савельева. В благодарность за это, как любил подшучивать, он на ней и женился, а в довершение ко всему переехал в Ростов жить. В 1941 году ушёл на фронт. По окончанию войны, имея звание полковника и вторую группу инвалидности, демобилизовался из армии. Так как на полную ставку по состоянию здоровья работать уже не мог, устроился на несколько часов в неделю преподавать военное дело в школе. Жена Натана Захаровича, доктор Савельева, после войны стала ведущим хирургом города Ростова – заведовала хирургическим отделением в центральной городской больнице.
Лёша Соловьёв родился в 1946 года в полковом госпитале и был четвёртым, самым младшим ребёнком в семье. На момент рождения мальчика у Соловьёвых было уже три девочки – одиннадцатилетняя Оля и шестилетние близнецы Даша и Наташа, которые во время войны жили у родителей Натана Захаровича в Иркутске. Рождение сына сначала очень обрадовало Натана Захаровича, но потом он как-то скис и иногда полушутя выговаривал жене:
– Ну что ты, Ленка, наделала. С нашими девками мы более или менее разобрались в этой жизни – одна после другой будет всё донашивать. А с пацаном что делать? Караул…
– И что? В чём дело-то? – однажды жёстким тоном спросила жена.
– Денег у нас совсем нет, а главное – не предвидится. Я добытчик, к сожалению, никакой.
– Натан, что ты всё время стонешь? Нет денег, нет денег… Нашёл проблему! Ну, возьму дополнительные дежурства. Или кому-нибудь что-нибудь отрежу – частным образом. В конце концов, ко мне очереди на операцию на полгода вперёд расписаны – взятки начну брать. Успокойся и не ной.
За многие годы супружеской жизни Натан Захарович не раз имел возможность убедиться, что Елена Степановна слов на ветер не бросает. Чего доброго и в самом деле начнёт ночами пропадать в больнице, а там недалеко и до взяток. Расстроившись вконец от разговора с женой, он пошёл на кухню курить.
– Ты же мне обещал бросить, – сказала, подсаживаясь к нему с папиросой и спичками, жена.
– С тобой бросишь. Нервы мне постоянно мотаешь.
– Слабак ты, Натан. А я вот захочу – и брошу.
– Захоти – и я после этого подумаю.
1.4
Наступил 1957 год – год Международного фестиваля молодёжи и студентов в Москве. Вся страна пела и плясала, готовясь к необычному празднику. Не было ни одной школы, ни одного института или производственного коллектива, где бы не проводились смотры художественной самодеятельности, в которых участвовала огромная масса людей. Каждый надеялся получить заветную путёвку в столицу. В школе, где Натан Захарович Соловьёв преподавал в старших классах, тоже шла подготовка к Международному фестивалю. Однако военруку было не до веселья. Сегодня должно было состояться предварительное распределение на работу его старшей дочери: Оля заканчивала учебу на физическом факультете Ростовского государственного университета по специальности «Рентгеноспектральный анализ».
Список мест распределения для молодых специалистов деканат физического факультета вывесил на доске объявлений в двенадцать часов дня. Напротив фамилии Соловьёвой стояло предлагаемое ей место работы – учитель физики сельской школы Миллеровского района Ростовской области. Оля понимала, что родители ждут ее дома с новостями, но ужасно боялась их реакции. В особенности папиной, который, как бывший военный, сразу «рубил с плеча». Чтобы не рассказывать по отдельности каждому члену семьи о результатах распределения, Оля решила вернуться домой попозже. Открыв входную дверь своим ключом, она увидела, что все уже сидят за столом и ужинают.
– Всем привет, – бодро бросила Оля с порога.
– Привет, – ответил за всех её младший брат Лёша. – Что нового?
– Лёша, отстань от Оли, – резко оборвала сына мать. – А ты быстро мой руки и садись кушать.
Всё было как всегда: папа сидел, уткнувшись в газету, мама сновала от стола к плите и обратно. Двойняшки Даша и Наташа, заканчивающие десятый класс, тихо перешептывались между собой. Тарахтел за столом, как обычно и по всякому поводу, только один Лёша.
– Ну как дела, Оля? Что-то ты не очень весёлая, – осторожно спросил Натан Захарович, не отрываясь от газеты.
– Так она тебе всё и расскажет, – не упустил возможности влезть в разговор Лёша.
Но Оля, которая всегда отделывалась от родительских вопросов односложным «нормально», сегодня подробно рассказала о состоявшемся на факультете предварительном распределении.
Мать сразу сняла передник и присела за стол, отец отложил газету. В кухне воцарилась напряжённая тишина.
– Ну и где этот Миллеровский район? – спросил Натан Захарович не предвещавшим ничего хорошего тоном.
– Подожди, Натан, со своим районом, – оборвала его Елена Степановна. – Оля, расскажи толком, что там у вас сегодня произошло. При чём тут учитель физики в школе? С твоей-то специальностью… Я так понимаю, это не школьная дисциплина.
– Правильно понимаешь, мама, но в дипломе будут указаны две специализации: «Исследователь. Преподаватель физики».
– А почему тебе предложили место преподавателя, а не исследователя? – продолжала допытываться Елена Степановна.
– Потому что все исследовательские места являются персональными и уже заняты нашими выпускниками по заявкам предприятий.
– Какие ещё есть варианты? – не отставала от дочери мать.
– Не знаю, – буркнула Оля.
– Ты мне лучше скажи, на каком месте стоишь в своей группе по баллам? – cпросил молчавший до этого отец.
– На втором, а в списке на распределение записана девятой.
– Так. От кого зависит решение о твоем распределении?
– Вообще, от декана факультета. Он всему голова. Но сегодня собрание с нами проводил заведующий выпускающей кафедры вместе с заместителем декана.
– А декан знает о местах распределения студентов? – снова задал вопрос Натан Захарович.
– Конечно, знает. Он же председатель комиссии.
– Понятно. Напомни-ка мне, Оля, – не отставал отец, – кто декан твоего факультета?
– Профессор Валентин Петрович Докучаев. Но он очень занятой человек, и к нему не прорваться.
– Я тоже занятой, – пробурчал себе под нос Натан Захарович и, резко встав из-за стола и даже забыв сказать жене спасибо за ужин, ушёл с газетой в другую комнату.
1.5
Проверив расписание своих уроков на завтра, Натан Захарович удостоверился, что после двух часов дня будет свободен. Для себя он уже всё решил: завтра пойдёт в университет и встретится с этим «очень занятым» деканом. Изложит ему свою просьбу и постарается убедить не посылать дочь на работу в сельскую школу, а распределить в какой-нибудь научно-исследовательский институт или, в крайнем случае, предоставить ей возможность свободного трудоустройства. А значит, теперь ему нужно, как на войне, продумать весь план завтрашнего «сражения».
Натан Захарович никогда ничего не откладывал в долгий ящик, поэтому сразу же сел за стол в большой комнате, где дети делали уроки, и начал составлять текст заявления.
Декану физического факультета РГУ
проф. Докучаеву В. П.
от гр. Соловьёва Н. З.
Заявление
Уважаемый профессор Докучаев В. П.!
К Вам обращается гвардии полковник в отставке, кавалер шести орденов Советского Союза, инвалид второй группы Соловьёв Натан Захарович – с огромной просьбой справедливо решить вопрос распределения на работу моей дочери Соловьёвой Ольги Натановны.
Моя дочь в этом году заканчивает Ваш факультет по специальности «Рентгеноспектральный анализ». Все годы обучения в университете она была отличницей, постоянно принимала участие в научно-исследовательской работе кафедры. В списке выпускников физического факультета по вышеуказанной специальности моя дочь по баллам вторая. Однако выбор места будущей работы ей предоставлен только за номером девять и, к сожалению, только как учителю физики в сельской школе. Объяснение, данное вашими сотрудниками, что первые восемь мест забронированы соответствующими предприятиями, которые подали заявки на конкретных выпускников, меня не устраивает. Здесь всё плохо пахнет и не соответствует духу советской морали.
Глубоко уверен, что направление на работу молодых специалистов не может быть похожим на заказ мест в ресторане, а должно учитывать результаты учёбы студента в университете за пятилетний период. Хочу отметить, что моя дочь, Ольга Соловьёва, в течение всех лет обучения в университете была активным участником художественной самодеятельности и являлась солисткой танцевального коллектива. За отличную учёбу и общественную работу она неоднократно награждалась различными призами и Почётными грамотами.
Надеюсь на положительное рассмотрение моего заявления.
С уважением,
Соловьёв Н. З.
18 апреля 1957 года
Сначала Натан Захарович хотел обсудить текст заявления со своим директором школы, Артёмом Ивановичем Николаевым, которого знал ещё с фронта. Но потом решил, что этого делать не следует, так как порядок распределения выпускников университета директор школы может и не знать. С другой стороны, Артём Иванович – известный в городе человек, депутат городского совета, может быть ему полезен в будущем при поисках работы для Оли.
1.6
На следующий день, во вторник, после работы Натан Захарович, не заходя домой, отправился на поиски физического факультета Ростовского университета. Четырёхэтажное здание типовой постройки с соответствующей вывеской он нашёл без особого труда. На входе его никто не остановил и не попросил предъявить документы. В фойе было много молодых людей, которые громко разговаривали между собой. Миновав их, он быстро поднялся на второй этаж и нашёл дверь с табличкой «Деканат». Возле двери стояли две девушки, которые явно не решались зайти внутрь.
– Извините, девушки, вы студентки физического факультета?
– Да, – с готовностью ответила одна из них. – А кто вам нужен?
– Мне нужен декан факультета.
– Профессор Докучаев редко бывает в своём кабинете. Можете поговорить с его заместителем Новосёловым. А лучше всего спросите секретаря Анну Андреевну. Она всё знает.
В приёмной рядом с дверью, где было написано «Декан факультета. Профессор Докучаев Владимир Петрович», стоял большой стол, за которым сидела немолодая женщина в строгом чёрном платье.
– Здравствуйте, – поздоровался Натан Захарович. – Я бы хотел поговорить с деканом факультета.
– К сожалению, его нет.
– А когда он будет?
– Этого я вам сказать не могу. А что вы хотите?
– Меня интересует вопрос, связанный с распределением на работу моей дочери Ольги Соловьёвой.
– Со всеми вопросами, связанными со студентами, следует обращаться к заместителю декана Новосёлову. Сейчас у него лекция, но он будет на месте приблизительно через час. Его кабинет напротив.
– Простите, а могу я вам оставить своё заявление на имя декана?
– Пожалуйста.
– Когда можно придти за ответом?
– В понедельник на следующей неделе.
Вечером за ужином Натан Захарович рассказал семье о своем визите в университет. Домочадцы внимательно слушали, но высказаться никто не спешил. Даже Лёша сидел молча, почуяв важность момента.
Первой в разговор вступила Оля:
– Ты, вообще, правильно сделал, папа, что не пошёл разговаривать с замом. Распределение молодых специалистов – это не его прерогатива.
– А что такое прерогатива? – спросил очень внимательно слушающий Лёша.
– Прерогатива – это персональное право принимать решение по какому-либо вопросу, – серьёзно ответила младшему брату Оля.
– Не понял. А что, все остальные в вашем университете не имеют такого права, – не унимался Лёша.
– Всё, прекрати! – прикрикнула на сына мать. – Сидишь и мешаешь взрослым разговаривать. Вот, из-за тебя мысль потеряла… А, да, вспомнила. Я о другом хочу сказать: может, ты, Натан, поторопился с заявлением?
– Почему ты считаешь, что поторопился?
– Потому что этим заявлением ты дал ход официальному рассмотрению дела. Теперь трудно будет воспользоваться нашими связями и решить этот вопрос без лишнего шума.
– Ничего страшного, – стал оправдываться Натан Захарович. – Одно другому никогда не мешало.
– А что тут плохого – быть сельской учительницей? – подключилась к общему разговору Даша. – Я помню, был даже такой фильм – с Верой Марецкой.
– Ладно, дочь, – оборвал Дашу отец, – только не надо нас агитировать за советскую власть.
Но тут, как обычно, в разговор снова влез Лёша:
– А мне не совсем понятно, кто такой этот декан, что у него наш папа должен что-то просить? Папа должен приказать – а тот обязан выполнять!
– Всё, Лёша, с тобой закончили, – скомандовала Елена Степановна. – Чистить зубы – и в кровать.
1.7
В понедельник Натан Захарович, как и положено военному человеку, точно после обеда был в приёмной декана факультета.
– Здравствуйте, Анна Андреевна.
– Здравствуйте.
– Я Соловьёв, отец вашей студентки Оли Соловьёвой.
– Да, я вас узнала.
– Скажите, пожалуйста, есть ответ на моё заявление?
– Да, есть.
Анна Андреевна открыла папку, на которой сверху было написано «С подписи» и протянула Натану Захаровичу его заявление с резолюцией проф. Докучаева: «Заместителю декана Новосёлову М. И. Рассмотреть данное заявление в установленном порядке. Докучаев».
– Извините, и это всё?
– Всё. А что вы, уважаемый товарищ, хотите?
– Хочу переговорить с деканом лично.
– Нет, сейчас он занят. Следующий приём по личным вопросам у профессора Докучаева будет только 6 мая. Я могу вас записать на эту дату.
За неплотно прикрытой дверью в кабинет декана раздавались мужские голоса, но Натан Захарович их не слышал. Ему было совершенно ясно, что откладывать рассмотрение столь важного вопроса, как будущее Оли, ещё почти на месяц ни в коем случае нельзя. Решение пришло сразу: сейчас он пойдёт домой, наденет свою парадную форму и вернётся обратно. А там посмотрим, на чьей стороне правда.
Дома никого не было, так что никому ничего не пришлось объяснять. Натан Захарович схватил кусок чёрного хлеба, налил стакан молока и быстро, не присаживаясь, поел. Затем подошёл к платяному шкафу, в котором одно отделение было полностью занято его вещами – от ботинок до каракулевой папахи, переоделся, потом присел за обеденный стол и наскоро написал записку жене:
Лена, привет! Пошёл на встречу с Олиным деканом. Когда вернусь – не знаю.
Целую. НЗ
Через час полковник Соловьёв во всём великолепии своего парадного мундира, с полной грудью орденов вошёл в приёмную профессора Докучаева. Пока он снимал плащ, вышколенная Анна Андреевна мгновенно метнулась в кабинет декана:
– Владимир Петрович, в приёмной товарищ Соловьёв в таком потрясающем виде, что аж страшно…
– Благодарю вас, Анна Андреевна, я сам доложу о себе. – Натан Захарович аккуратно отодвинул от двери растерявшуюся секретаршу. – Гвардии полковник Соловьёв, – отрапортовал он с порога. – Прошу вас, товарищ декан, уделить мне несколько минут внимания.
– А почему вы, товарищ полковник, врываетесь ко мне в кабинет без разрешения? Да ещё в головном уборе? – искренне возмутился профессор Докучаев.
– Прошу прощения, товарищ декан. Общевойсковой устав допускает ношение головного убора в помещении.
– Я тоже знаю воинский устав, товарищ полковник. Был на фронте, служил в танковых войсках. В 1943-м комиссован по ранению. Присаживайтесь. Слушаю вас. И снимите, пожалуйста, свою фуражку.
Натан Захарович сел на стул, снял фуражку и положил её на стол, повернув кокардой в сторону декана.
– Я вам несколько дней назад подавал заявление относительно распределения на работу моей дочери Ольги Соловьёвой.
– Знаю вашу дочь. Хорошая студентка.
– Очень приятно. И поэтому вы посылаете её работать учителем в сельскую школу?
– Мы направляем её в Миллеровский отдел народного образования. А там ей уже конкретно определят место работы.
– Но она не хочет работать учительницей, заканчивая с красным дипломом университет. Для такой жизненной перспективы достаточно было бы и пединститута.
– Согласен с вами, товарищ полковник. Но мы в этом году все места для трудоустройства молодых специалистов получили только в сельских школах.
– Уважаемый Владимир Петрович, – Натан Захарович первый раз обратился к декану по имени-отчеству. – Поймите, у нас четверо детей. Оля старшая – опора в семье, она помогает нам с младшими. Я инвалид второй группы, нередко плохо себя чувствую. Жена пропадает на работе без выходных.
– А кто у вас жена, товарищ полковник?
– Врач. Заведует хирургическим отделением центральной городской больницы.
– Елена Степановна Савельева?
– Так точно.
– Елена Степановна – прекрасный врач. Должен вам признаться, что она в своё время очень помогла нашей семье.
– Приятно слышать, – ответил Натан Захарович, и в его голосе прозвучала надежда.
– Ладно, давайте сделаем таким образом. Пусть через неделю Оля зайдёт ко мне, а я подумаю, что можно сделать.
1.8
После разговора с деканом Натан Захарович домой не торопился. Он был очень доволен, что не стал ждать, пока проблема с распределением дочери разрешится сама собой, а активно вмешался в процесс, проявив находчивость и инициативу. Правда, никакого результата ещё нет, но появилась уверенность, что всё будет хорошо.
Время приближалось к шести часам. В рюмочной, куда Натан Захарович заглянул по дороге, сидело всего два человека: те, кто должен был выпить днём, уже давно сделали это, а вечерняя волна любителей опрокинуть стаканчик была ещё на подходе. Натан Захарович взял стакан красного вина, кусок чёрного хлеба с селёдкой и отошёл к свободному столику. Не успел сделать и пары глотков, как услышал:
– Что празднуем, товарищ генерал?
К нему подошел неопрятно одетый мужчина средних лет.
– Международный праздник трудящихся – 1 Мая.
– Вы что, шутите? Он же еще только через две недели.
– Смотрите, уважаемый, есть такая русская поговорка: кто празднику рад, тот пьян накануне.
– Красиво сказали. Тогда, может, угостите винцом человека, постоянно делающего в жизни ошибки?
– Это можно. Возьмите у стойки стакан вина и скажите буфетчице, что я заплачу.
Домой Натан Захарович вернулся в приподнятом настроении. Он чувствовал себя победителем. Его глаза сияли ярче, чем все ордена на груди. Семья в полном сборе сидела за обеденным столом и ждала папу. На почётном месте хозяина дома восседала жена Лена. Дети сидели по бокам от неё, по двое с каждой стороны стола.
– Ну, и куда это ты, Натан, ходил сегодня, нацепив на себя весь этот иконостас? – грозно спросила Лена, закуривая очередную папиросу «Беломорканала». Постоянно курила в доме она одна, а все остальные члены семьи, как выражался Натан Захарович, не торопясь дохли от дыма.
– Я же тебе, Лена, в записке написал, куда пошёл…
– Я читала. А теперь расскажи всем о результатах своего визита в университет.
– Ну что, мои дорогие, – не торопясь начал Натан Захарович, – должен вам сказать, что после задушевной беседы с деканом факультета есть надежда на положительное решение вопроса с Олиным распределением.
– Ура!.. – раздались громкие возгласы всех присутствующих. Близнецы визжали от удовольствия, но громче всех орал Лёша, хотя и не совсем понимал причину общего восторга.
Натан Захарович подробно, в лицах – за секретаря факультета и за декана, пересказал семье все события дня, сам получив от этого огромное удовольствие.
Когда он закончил, Лена спросила у мужа:
– И на каком основании декан факультета может принять решение в пользу нашей дочери?
– Думаю, что он будет советоваться по этому поводу с заведующим выпускающей кафедры. Ведь он не просто так сказал, что Оля – хорошая студентка.
– Ладно, поживём – увидим. В любом случае ты молодец, папа. А теперь отвечай: есть будешь? Я, правда, вижу, что дорога домой у тебя прошла через рюмочную.
– Конечно, буду, товарищ майор медицинской службы!
1.9
Дома Натан Захарович полностью подчинялся приказам жены, переложив на неё обязанности главы семьи. Эта позиция позволяла ему жить спокойно и комфортно. Сама Елена Степановна не возражала против такого распределения ролей. Всем своим поведением, внешним видом, а иногда и прямыми высказываниями любила подчеркнуть, что она врач-хирург, а не какой-нибудь там терапевт. Пройдя с военным госпиталем всю войну, Елена Степановна умела в нужной ситуации отпустить резкое словцо, а иногда и ругнуться матом. С больными обращалась сурово, но доброжелательно, за что её все любили и уважали. Когда к ней обращались с жалобой на здоровье, Елена Степановна никогда не сочувствовала – наоборот, хохотнув своим прокуренным голосом, подбадривала больного грубоватой шуточкой: «Это хорошо, что у тебя болит. Лишнюю копейку дашь заработать».
Благодаря новостям, которые принёс Натан Захарович, атмосфера в доме Соловьёвых была радостной и тёплой. Все старались сказать что-нибудь приятное друг другу, пока среди оживленного разговора Елена Степановна не обнаружила, что за столом отсутствует Лёша. Младшего сына она нашла в большой комнате, лежащим на диване в своей любимой позе – на животе и читающим какую-то толстую книгу. В ногах у него пристроилась маленькая серая собачка по кличке Грелка. Лёша считал себя единственным хозяином Грелки, но не возражал, когда кто-то из домашних хотел с ней поиграть. Грелка в свою очередь допускала до себя всех членов семьи Соловьёвых, но почему-то грозно рычала, когда кто-нибудь дотрагивался до домашних тапочек Елены Степановны. Такое поведение Грелки уже давно стало своеобразным аттракционом, который регулярно проделывали с ней все домочадцы. Но это никак не влияло на стойкую отрицательную реакцию собаки.
История приобретения Грелки на птичьем рынке Ростова звучала в доме Соловьёвых многократно, причем постоянно в ней появлялись дополнительные подробности. Например, последний раз возник спор, кто первым назвал собаку Грелкой. Спор закончился ничем, так как на авторство претендовали все члены семьи. Но дело было в том, что сначала Елена Степановна хотела купить Лёше попугайчика, предполагая убить этим сразу двух «зайцев»: во-первых, привить сыну любовь к животным, а во-вторых, занять его чем-то интересным, когда он оставался дома один. С этой целью в ближайшее воскресенье Лёша с мамой и папой отправились на птичий рынок. Накануне Натан Захарович нашёл в подсобке биологического кабинета школы старую поломанную клетку, починил её и даже приделал к дверце клетки маленький колокольчик.
Всё было готово к покупке попугайчика. Но прямо у входа на рынок семью Соловьёвых ожидали неприятности – Лёша потерялся. Всегда дисциплинированный мальчик, а тут как в воду канул. Мама и папа заметались между рядами торговцев, выкрикивая имя сына на весь базар, но это не дало никаких результатов. Тогда Елена Степановна решила снова вернуться к воротам рынка, где и обнаружила Лёшу. Он стоял рядом с какой-то пожилой женщиной в стареньком пальто и неотрывно глядел на неё – вернее, на то, что выглядывало у ней из-за пазухи. Это была голова маленькой собачки с двумя угольками слезящихся глаз и мокрой чёрненькой пуговкой носа.
– Сыночек, ты чего тут стоишь? Мы с папой тебя обыскались. Это всё-таки базар.
Лёша даже не пошевелился, как будто не к нему взволнованным голосом обращалась мама. Как зачарованный, он смотрел на собачку, не замечая ничего вокруг. Через несколько минут к маме присоединился папа, который грозным тоном попытался привлечь внимание сына. Но обычно послушный мальчик никак не реагировал на родителей.
– Лёша, приди в себя! Что с тобой происходит? – встряхнул его отец.
– Ничего, папа, не происходит, только я тебя очень прошу: купи мне вместо попугайчика вот эту собачку. Не нужен мне попугайчик, – со слезами в голосе попросил сын.
Натан Захарович был в растерянности, не зная, что ответить. С одной стороны, Лёша никогда ничего не просил, живя в своём особом мире. С другой он понимал, что тех денег, которые жена выделила на покупку попугайчика, безусловно, не хватит на приобретение собачки. В любом случае, он был не в силах отказать единственному сыну, самому младшему ребёнку в семье
Оглянувшись на Лену, которая стояла рядом с каменным лицом, Натан Захарович спросил у продавщицы:
– Мамаша, что у вас за собачка? Какой породы?
– Карликовый пудель. Вырастет, будет серой окраски.
– А документы есть на собачку?
– Какие документы?
– Документы, подтверждающие её породу.
– Чего? Нет у меня никаких документов. Да вы спросите Ваську, который на углу птичками торгует. Он всё подтвердит.
– Вы, уважаемая, вчера могли дать Ваське три рубля, так сегодня он подтвердит, что из этого щенка снежный барс вырастет.
Юмора старушка не поняла, но, видя заинтересованность покупателя и страдальческое лицо его сына, снизила цену. Впрочем, Натана Захаровича это не вдохновило.
– Да за такие деньги, мамаша, я месяц работаю. Дорого это для нас.
– А сколько дашь?
– Ровно половину.
– Нет, не пойдёт.
– Ну, смотри.
Натан Захарович уже собирался уходить, когда маленькая ручка сына крепко сжала его ладонь. Этим рукопожатием – без слов, без слёз, без просьб – сын давал отцу клятву, что всегда будет его слушаться и беспрекословно ухаживать за собачкой. Для Натана Захаровича это было сигналом прекратить торговаться и купить собачку. Ко всеобщей радости, бабушка еще немного сбросила цену и протянула кутёнка Лёше.
Когда собачку принесли домой, все наперебой стали хватать ее – каждому хотелось подержать щенка на руках. Он оказался ласковым и вздрагивал от каждого шороха. Маленькая, с мягкой приятной шерстью, излучающая покой и тепло, собачка была как грелка. Так её и назвали – Грелка. Как и обещала бабушка с рынка, за год она из чёрной превратилась в серебристую.
1.10
Когда Елена Степановна зашла в комнату, ни сын, ни собака даже не пошевелились. Лёша был увлечён чтением, а Грелка, прижавшись к нему, делала вид, что спит.
– Лёша, тебе неинтересно, о чём мы говорим за столом? – недовольным голосом спросила мать.
– Сначала было интересно, а потом стало скучно, – продолжая читать книгу, откровенно ответил Лёша.
– Ты не переживаешь за свою сестру?
– Очень переживаю.
– Ну, и в чём дело? Кстати, что ты там читаешь?
– Энциклопедический словарь.
– Что тебя в нем так заинтересовало?
Лёша сначала застеснялся, но потом, как бы оправдываясь, тихо сказал:
– Просто хочу знать, кто такой декан и почему, чтобы с ним поговорить, нужно заранее записываться на приём.
– Ну и что? Теперь знаешь?
– Знаю. Написано, что декан является руководителем факультета в высшем учебном заведении и отвечает за качество учебной, воспитательной и научной работы на факультете.
– Ну, всё, Лёша. Не морочь мне голову. Идём, нас все ждут, – нетерпеливо перебила сына Елена Степановна.
– Подожди, мама. У меня есть вопрос. Объясни мне, пожалуйста, что такое «качество учебной, воспитательной и научной работы на факультете»?
– Здесь, по всей видимости, речь идёт об успеваемости студентов и их поведении на занятиях, – попыталась ответить Елена Степановна.
– Но это же не школа? Это университет, в котором учится наша Оля. Здесь нет оценок за поведение.
– Так. Заканчивай умничать и марш на кухню.
Лёша встал с дивана и нехотя пошёл за мамой, не получив ответа на свои вопросы. За ним, опустив голову, поплелась Грелка.
Глава 2. Надежды
2.1
Воронов говорил негромко и медленно, подбирая простые слова, чтобы конвоир всё понял.
– Прошло уже три года, как я нахожусь в заключении. Первые восемь месяцев меня держали в Крестах, из них пять месяцев в одиночке. А когда перевели в общую камеру, в грязной одежде, со свалявшейся бородой, кто-то из заключённых признал во мне деникинского офицера. На все отговорки, что я в белой армии по возрасту служить не мог, никто не поверил. С этой легендой я и пошёл по этапу до мордовских лагерей, где трудился два с лишним года на торфоразработках. Пока не отобрали в отряд Колоскова.
– А где вы родились и что делали до заключения? Кто родители и всякое такое?
– Родился в Санкт-Петербурге в 1914 году. Отец имел в городе несколько магазинов пушных товаров. Мама занималась воспитанием и образованием детей. Нас было пятеро – две девочки и три мальчика. Я был самый младший. Два моих старших брата погибли на войне с германцами, одна сестра умерла в 1919 году от холеры. Сразу после её смерти папа продал все магазины, и мы уехали в Крым. Там жила мамина двоюродная сестра. Ее муж был предводителем дворянства в одном из крымских городов. В 1920 году, когда все бежали вместе с Врангелем за границу, наша семья оказалась в Турции. Год мы там прожили, а через год мой папа, гордый и принципиальный человек, отказался существовать в эмиграции на подачки. Нашёл контрабандистов, заплатил им хорошие деньги и вернулся один в Крым. Больше его никто никогда не видел. А ещё через полгода моя мама со мной и старшей сестрой уехала из Турции во Францию.
В Париже нас приютили дальние родственники. Они определили меня в лицей, где я девять лет учился на полном пансионе. Свободно говорю на французском и английском языке. После окончания лицея решил через российское торговое представительство вернуться на родину, в Ленинград. В 1932-м поступил в Ленинградский политехнический институт, на факультет водного хозяйства, который в 1937 году окончил по специальности «Гидросооружения». Устроился на работу в ленинградский проектный институт, но успел поработать инженером всего пять месяцев, как меня арестовали и осудили на пятнадцать лет за контрреволюционную деятельность.
Когда Воронов закончил свой рассказ, Семёнов вдруг тихо произнёс:
– Жить в покое и согласии с собой – вот цель земного существования человека.
– Как-как вы сказали? – изумился Воронов.
– Это не я сказал, это мой отец сказал, когда меня на воинскую службу забирали в 37-м. И ещё он сказал: «Честно служи людям, и они тебе всё вернут с благодарностью».
– У вас что, отец духовного звания?
– Нет. Правда, верующий. И очень справедливый человек.
На этом их беседа закончились. Семёнов никаких вопросов Воронову не задавал: разговаривать с заключенным – хоть они и были здесь вдвоём – по всем инструкциям конвоиру строго запрещалось. Да и что он мог спросить у этого образованного человека, когда и половины слов не понял из его рассказа. Так они и сидели молча, пока костер не начал догорать.
– Вы вот что, – обратился Николай к Воронову. – Последите за огнем, пока я хвороста еще насобираю.
Семёнов ушел в темноту, а Воронов остался сидеть, вытянув ноющую ногу. Каждый из них думал о прошедшем дне, дорисовывая образ нового знакомого. Хотя разница в возрасте между ними, как выяснилось, была всего пять лет, Воронов, заметно уставший от жизни человек, к тому же измученный постоянной болью в ноге, выглядел значительно старше своих лет. В то время как Семёнов, несколько минут назад сидевший у костра в шапке, сдвинутой на затылок, раскрасневшийся от огня и словно попавший в родную стихию, смахивал на подростка. Сейчас они больше походили на отца и сына, а не на арестанта и конвоира.
2.2
Прошло ещё три дня. Семёнов и Воронов упорно шли вперед. Разговаривали друг с другом только в случае крайней необходимости: Воронов делал вид, что он заключённый, Семёнов – что он его охраняет.
Запасы еды, как они ни экономили, подошли к концу. Нужно было принимать какое-то решение. На четвёртый день, проснувшись рано утром, Семёнов объявил:
– Заключённый Воронов, слушайте мою команду. Я ухожу на поиски кого-нибудь, кто сможет нам помочь. Одни мы не справимся. Вы остаётесь здесь и ждёте моего возвращения. Никуда с этого места не уходите. На всякий случай возьмите мой нож, он может вам пригодиться. Всё понятно?
– Понятно.
Воронову и в самом деле было всё понятно. Он был абсолютно уверен в том, что за ними никто не придёт. Задание у группы, судя по тому, как Колосков всех торопил, сокращая до минимума время отдыха, было непростое. Возвращаться за людьми, которые в принципе ему не очень нужны и, более того, никак не могут повлиять на выполнение задания, он не станет – это было явной фантазией молодого конвоира. То, что Семёнов принял окончательное решение догонять группу с человеком, который практически не в состоянии идти, – тоже было нереально. Конечно, конвоир может его просто пристрелить. За заключённого, которого ликвидировал в силу сложившейся ситуации, он получит, в крайнем случае, выговор. Но был у Семёнова ещё один вариант – уйти и не вернуться. Хотя в глубине души Воронов почему-то не верил, что этот молодой человек может так поступить.
День клонился к вечеру, а Семёнов всё не возвращался. Александр Николаевич с большим трудом встал и, загребая больной ногой мокрый мох, заковылял в ту сторону, куда опустилось солнце. Он решил идти назад, на запад, где была хоть какая-то вероятность встретить жилые поселения. Но пройти ему удалось не более ста метров – боль в ноге становилась невыносимей. В какой-то момент его сознание помутилось, и он упал. Воронов чувствовал, что весь горит. Особенно почему-то лицо. По всей видимости, когда сломал ногу и пытался идти босиком без ботинка, ещё и простудился. Мох, под которым вечная мерзлота, в такие игры играть не любит. Через какое-то время стало немного легче. Воронов перевернулся на живот, лицом в мокрый мох, и затих. Жар стал спадать, и он забылся в коротком сне.
Прошли сутки, как ушёл конвойный. Несмотря на летний месяц, ночью было очень холодно. Как только начало светать, почти окоченевший Воронов снова пополз вперёд. А ближе к вечеру второго дня его нашёл Семёнов.
– Что же вы, уважаемый, ушли с того места, где я вас оставил?
– Я подумал, что вы уже не вернётесь и пополз в том направлении, откуда мы пришли.
Чувствовал он себя плохо и Семёнова видел как в тумане. С большим усилием, приподнявшись на локте, Воронов спросил:
– Как вы меня нашли?
– А чего тут было искать? Я как-никак в тайге вырос, а вы такую канаву за собой оставили, что только слепой не заметит. Да вы, я вижу, промокли насквозь. Сейчас костер разожгу и согреетесь.
2.3
Лёша Соловьёв, тихий воспитанный ребенок, находился в семье на особом положении. Рождение мальчика после трёх девчонок сначала вызывало у домашних слёзы умиления, желание понянчить и подержать его на руках. Но спустя несколько месяцев Елена Степановна была вынуждена составить график – кто будет сидеть с маленьким ребёнком дома. На няньку у Соловьёвых не было денег, а посещать ясли Лёша не мог из-за того что часто болел.
Рос Лёша в окружении старших сестёр, которые играть с ним никогда не хотели. Да и ему с ними было неинтересно. Все игрушки в доме – куклы, кроватки, платьица, шарики – покупались в течение многих лет только для девочек. А когда родители это поняли и купили Лёше лук со стрелами, то оказалось, что он и к этому равнодушен.
Зато Лёшу нельзя было оторвать от книг. При этом ему было всё равно, что читать: художественную литературу, справочники или даже какие-то специальные инструкции. Он мог часами разглядывать географические атласы, внимательно разбирая все надписи под картинками. Иногда брал у сестёр (правда, без спроса) контурные карты и по памяти раскрашивал их, причем без единой ошибки. Но самым любопытным было то, с каким увлечением Лёша читал толстые книги по медицине, которые Елена Степановна собирала ещё с довоенных времён. Когда кто-нибудь из домашних спрашивал его, где можно посмотреть информацию о какой-нибудь болезни – например, о коклюше или кори – он безошибочно указывал на нужное место в соответствующей книге. Все считали, что Лёша непременно будет врачом.
Примерно с шести лет Лёша начал принимать участие в домашней игре в слова, на которую собиралась вечером вся семья Соловьёвых. Смысл её заключался в том, что из одного длинного слова, например «абракадабра», нужно было составить другие слова. На выполнение задания давалось десять минут. По истечении этого времени кто-нибудь из играющих зачитывал свой список, остальные вычёркивали, если у них оказывались такие же слова. У кого оставалось больше всех невычеркнутых слов, тот и выигрывал. В этом лексическом турнире маленький Лёша, как правило, проигрывал. Но когда начинали играть в города, то равных ему не было. Особенно всех домашних умиляло то, что он мог подробно рассказать о любом названном городе: в какой стране находится, сколько людей в нём живёт, чем они в основном занимаются, какие там есть учебные и культурные учреждения. В спор с ребёнком никто вступать не решался, так как все знали, что он практически всегда прав.
Но вскоре у Лёши появилось другое увлечение. Дело в том, что практически каждый вечер Натан Захарович играл сам с собой в шахматы. Но даже в трёхкомнатной квартире ему было непросто найти для этого место. Дальняя комната была полностью оккупирована дочерьми. За столом в большой проходной комнате тоже кто-нибудь сидел и занимался. Оставалась только их с Еленой Степановной спальня, где Натан Захарович мог сосредоточиться на игре. Однако в девять часов вечера на родительскую кровать укладывали Лёшу (уже потом, когда все отходили ко сну, его переносили на диван в большую комнату). Так и ходил Натан Захарович со своими шахматами из комнаты в комнату, пытаясь найти для себя уединённое место. Устроившись, наконец, где-нибудь и открыв «Избранные партии» Ботвинника, он затихал. Но однажды, когда Натан Захарович увлечённо разбирал очередную шахматную комбинацию, он услышал за спиной голос Лёши:
– Папа, ты не туда пошёл конём.
Натан Захарович не заметил, что сын зашёл в родительскую спальню и внимательно наблюдает за тем, что происходит на шахматной доске.
– А ты откуда знаешь, что не так? Ты что, умеешь играть в шахматы? – с недоумением уставился на него Натан Захарович.
– Не могу сказать, что умею играть, но твою книжку про шахматы знаю почти наизусть, – спокойным тоном сообщил отцу Лёша.
– Так. А ну садись рядом – будем вместе разбирать наследие великих шахматистов.
Оказалось, что Лёша, читая книгу Ботвинника, запомнил все ходы рассматриваемых партий и мог без труда их воспроизвести.
– Молодец, сыночек. А не хочешь ли сыграть со мной партию — другую?
– Нет, папа, я боюсь.
– Не надо бояться, чего бояться? Шахматную нотацию ты знаешь, а ходы используй из тех партий, которые видел в книге.
Теперь каждый вечер папа с сыном играли в шахматы, что устраивало всех, так как они уходили в родительскую спальню и никому не мешали. Сначала Натан Захарович давал Лёше фору в виде ферзя или ладьи. Лёша пытался сопротивляться, но всё равно отец неизменно побеждал сына. Потом Натан Захарович перестал жертвовать Лёше шахматные фигуры и они стали играть на равных. Но однажды, даже не заметив, как это произошло, Натан Захарович проиграл. Не очень расстроившись и понимая, что это простая случайность, он предложил Лёше сыграть ещё одну партию. И снова проиграл. Это уже повергло его в шок. Натан Захарович никак не мог согласиться с тем, что шестилетний мальчик может обыграть взрослого человека.
2.4
Елена Степановна готовила ужин, когда на кухню зашёл Натан Захарович. Сев у окна, он потянулся к папиросам жены, хотя давно уже бросил курить.
– У тебя что-то случилось, Натан? Чем ты так расстроен? – спросила Елена Степановна, не отрываясь от плиты.
– Понимаешь, Лена, я последнее время стал проигрывать нашему сыну в шахматы, – пожаловался Натан Захарович.
– Ну и что?– рассмеялась Елена Степановна. – Ты гордиться должен, что у нас такой талантливый мальчик. А ты расстраиваешься по такому поводу.
– Ты не понимаешь, о чём я тебе говорю.
– Почему не понимаю? Понимаю. Просто у тебя в очередной раз защемило самолюбие. Натан, очнись. Я тебе так скажу: самолюбие – не грыжа. С этим можно жить долго и счастливо.
– Ты считаешь, что не надо ничего делать?
– Ничего. Впрочем, знаешь, что я подумала? В компенсацию своих отрицательных эмоций на почве шахмат научи-ка ты Лёшу играть в преферанс. Тебе же всё равно нужен партнёр. С девчонками у тебя не получается побаловаться картами, так приобщи к этому сына.
– Ты что, Лена, ребёнку неполных семь лет! Какой преферанс? Да он десять карт в одной руке не удержит.
– Будет держать двумя руками – что за проблема?
– Ну, можно попробовать…
– Вот и хорошо. А сейчас, отец, зови всех на ужин.
На следующий день, расставляя вместе с сыном фигуры на шахматной доске, Натан Семёнович, как бы между прочим, заметил:
– Слушай, Лёша, а давай я тебя научу играть в преферанс. Не сомневаюсь, что эта игра тебе понравится.
– Давай, папа. Только ты мне о ней сначала немного расскажи.
– Конечно, конечно. Преферанс – это карточная игра, в которой каждый игрок может заработать деньги своим умом и памятью. Для этого нужно, прежде всего, знать правила игры в преферанс и чётко их выполнять.
– Может, есть книги по преферансу, как по шахматам? – робко спросил отца Лёша.
– Не встречал. Может, и есть. Но ты не переживай. Я тебе всё подробно расскажу.
– А как ты, папа, сам научился играть в преферанс?
– На фронте. Когда было какое-нибудь затишье, с товарищами играл. Вот и научился. Главное в преферансе быть предельно внимательным – меньше говорить, больше наблюдать за партнёрами. Ну что, сын, приступим?
2.5
Натан Захарович вытащил из карточной колоды все шестёрки и разложил оставшиеся карты на три кучки по десять карт в каждой. Потом еще две карты отложил в сторону.
– Значит, так. В игре в преферанс принимают участие, как правило, четыре человека. Можно играть втроем и даже вдвоем, как в нашем случае. Когда играют два человека, преферанс называют гусарским. Но всегда раздают карты на четверых играющих. Две карты, отложенные в сторону, называются прикупом. Ими может воспользоваться только тот из партнёров, который выиграет «торговлю». Понял, сынок?
– Ничего я не понял. Давай, покажи это в игре.
– Давай, умный ты мой. Сегодня мы с тобой поиграем без записи, хотя в преферанс без записи не играют. Однако этим займёмся позже, так как здесь есть определённая специфика.
– Так в шахматах тоже есть запись ходов.
– Это совсем не то. Ну что, начнём?
— Начнём. Раздавай, папа, карты.
— Ой, забыл тебе, сын, ещё сказать. В преферанс играют только на деньги.
– Но это, как говорит наша мама, неинтеллигентно.
– Может, и неинтеллигентно, но так принято, так как хулиганством и авантюризмом можно испортить всю игру. А в этом случае человек наказывается за все свои выходки рублём.
– И мы тоже будем играть на деньги?
– Конечно. Или это будет тогда не преферанс. Я тебе деньги дам на первых порах взаймы, а там разберёмся.
– Как это разберёмся? Откуда я их возьму, чтобы с тобой расплатиться?
– У мамы попросишь. Я же знаю, что она тебя балует. За моей спиной даёт деньги на семечки, мороженое.
С этого вечера Натан Захарович и Лёша играли в преферанс. Играли серьёзно, без поддавков, расплачиваясь друг с другом за каждую партию. Запись на первых порах вёл Натан Захарович, но через несколько месяцев каждый из них записывал сам за себя. Натан Захарович продолжал учить сына, желая довести уровень его игры, как минимум, до своего.
– Учти, Лёша, преферанс – это игра, в которой ты должен надеяться только на себя. Здесь не должно быть никаких авантюрных вариантов: грамотное использование своих карт плюс игровая интуиция. Моя задача научить тебя первому, а второе само придёт к тебе с опытом.
– А что делать, папа, с тем, что называют карточным азартом? Я это понятие много раз в книгах встречал.
– Должен тебя, сынок, сразу предупредить: преферанс и азарт – понятия несовместимые. Игра в расчёте на счастливый случай может тебе дорого стоить. А нечистые на руку люди, увидев в тебе азартного человека с неустойчивой психикой, могут этим воспользоваться.
– Так что, в преферанс следует играть только со знакомыми людьми?
– Желательно. Но в случае, если ты сел играть с незнакомыми партнёрами, не соглашайся на дорогой вист. И ещё. Никогда ни с кем не играй в долг. Только на те деньги, которые у тебя есть. Ты понял меня?
– Понял, папа, понял.
Папины советы Лёше очень пригодились в дальнейшем. В преферанс он играл всегда умно, спокойно и уважительно по отношению к партнёрам. Через эту интеллектуальную игру Лёша познакомился в своей жизни со многими интересными людьми.
2.6
Через год, в семь лет, Лёша пошёл в первый класс. Отводили его в школу всей семьёй, но на родительские собрания регулярно ходил только Натан Захарович. Учился Лёша очень хорошо, легко и со вкусом. Учителя его всегда хвалила.
Как-то раз после родительского собрания классная руководительница спросила Натана Захаровича:
– Скажите, пожалуйста, а чем ваш способный ребёнок ещё, помимо школы, занимается?
– Книги читает, в шахматы играет, марки собирает, – ответил Натан Захарович.
– Неужели вы его не учите музыке? В такой семье, как ваша, и чтобы ребёнок не ходил в музыкальную школу? Это очень странно.
Вернувшись из школы, папа за ужином пересказал свой разговор с учительницей и тут же об этом пожалел, так как вся семья Соловьёвых принялась рьяно его обсуждать. Первой высказалась Елена Степановна:
– Натан, ну что ты поднимаешь совершенно несвоевременные вопросы? Хотя бы со мной сначала посоветовался.
– А что за такой серьёзный вопрос, что мне нужно предварительно советоваться с тобой?
– Потому что у нас нет сейчас на это денег. Девочки заканчивают школу и нам предстоят в конце учебного года сумасшедшие расходы: платья, туфли, выпускной вечер. Да о чём вообще здесь говорить?
– Нет, Лена, подожди. Лёше уже почти десять лет. Когда же ты собираешься учить его музыке?
– Никогда. Почему это обязательно нужно делать? Наши девочки выросли без музыки всем на загляденье, и мальчик обойдётся.
– Ты не права. К сожалению, детство наших девочек пришлось на войну. А сейчас другое время.
– Я поддерживаю папину идею, – вступила в разговор старшая Оля. – Лёша должен получить всестороннее образование, в том числе и музыкальное.
– А я против, – громко запротестовала Даша. – Ольке что – она скоро уедет в свой Миллеровский район, а мы с Наташкой будем весь день слушать его гаммы. Лёшка ничего не умеет делать без фанатизма.
– Во-первых, Оля не уезжает ни в какой район, – жёстко парировал отец. – А во-вторых, не вам решать этот вопрос.
– Это почему же, Натан, не им решать? – встала на защиту дочери Елена Степановна. – Ты что, узурпировал в нашей семье власть? Демократия так демократия – давайте голосовать.
– А давайте, – махнул рукой Натан Захарович.
Он понимал, что, согласившись на голосование, ставит себя под удар. Три голоса против его предложения – жена и близнецы – были налицо, и он мог позорно проиграть, оставшись вдвоём со старшей дочерью. Теперь всё решал голос Лёши, который весь вечер молчал.
– Ну что, сынок, – обратился Натан Захарович к Лёше, – ты за кого: за маму или за папу?
– Я как ты, – робко ответил Лёша.
– Ну вот. Подводим итоги: три на три. Так как я глава семьи, то у меня два голоса. Итак, счёт четыре против трёх за то, чтобы Лёшка учился музыке.
– Это с какого же перепуга у тебя, Натан, два голоса? – попыталась возразить Елена Степановна.
– Отставить разговоры, майор Соловьёва. Я, как старший по званию, приказываю закончить дискуссию на эту тему.
Когда все дети разошлись по своим комнатам и родители остались на кухне одни, Елена Степановна сурово заметила мужу:
– Я не поняла, товарищ полковник, что за цирк вы сегодня устроили? Что это за голосование в свою пользу? И объясни, наконец, на каком инструменте будет учиться музыке наш сын? Сразу хочу предупредить: я на этот твой проект могу выделить из семейного бюджета только пять рублей в месяц.
– Значит, как я понимаю, ты не хочешь купить для нашего ребёнка пианино?
– Ты какой-то смешной, Натан. А куда мы его в нашей квартире поставим? Настругал, понимаешь, детей, а теперь ещё что-то от меня хочет.
– Да ничего я от тебя не хочу, – огрызнулся Натан Захарович.
– Ну и хорошо, – примирительно заключила Елена Степановна.
На кухне воцарилась тишина, которую через некоторое время нарушил сам Натан Захарович.
– А как ты, Лена, смотришь, если Лёша будет учиться играть на виолончели?
– Плохо. Ребёнок всю жизнь будет таскать на себе эту бандуру. Не хочу я ему такой доли.
– Ну, тогда остаётся скрипка, – робко предложил Натан Захарович.
– Не возражаю. Только помни, Натан, наш разговор о деньгах.
На следующий день Натан Захарович пошёл в районную музыкальную школу, которая располагалась в красивом одноэтажном доме и имела семь комнат, называемых классами, а также небольшой концертный зал человек на 70 – для экзаменационных и концертных выступлений учащихся и преподавателей школы. В зале стояли два хороших рояля, один из которых всегда был накрыт белым чехлом. Директора школы в кабинете не оказалось и секретарь посоветовала Натану Захаровичу поговорить о сыне с заведующей учебной частью.
– Здравствуйте, – приоткрыл в кабинет завуча дверь Натан Захарович, – извините за беспокойство. Я хочу учить сына игре на скрипке в вашей музыкальной школе.
– Очень хорошо. Фамилия и имя вашего сына. Сколько ему лет?
– Соловьёв Лёша, девять лет.
– Значит так. Если он успешно пройдёт прослушивание, то начнёт обучение в нашей школе с первого сентября следующего года. За обучение на отделении скрипки взимается плата полтора рубля в месяц. Какую скрипку купить, вам порекомендует педагог, в классе которого Лёша будет заниматься.
– Прошу прощения за вопрос: а сколько стоит самая маленькая скрипка?
– Где-то в пределах двадцати рублей.
– Спасибо. Всего хорошего.
– До свидания.
2.7
С момента поступления в музыкальную школу Лёшу как подменили. Раньше его нельзя было оторвать от книг, а теперь он целыми днями играл на скрипке. Придя из общеобразовательной школы, Лёша уже не расставался со своим инструментом до того времени, как нужно было идти спать. Как правило, он начинал заниматься в большой комнате. Потом, после криков, что он уже всем надоел своим пиликанием, переходил на кухню. Оттуда его через некоторое время выдавливали в ванную, требуя плотно закрыть за собой дверь. Когда Лёшу и здесь не оставляли в покое, он уходил из квартиры на лестничную клетку и продолжал играть там. Скрипки менялись практически через год, и не только потому, что Лёша взрослел. Прямо на глазах он превращался в зрелого исполнителя.
Перерыв в музыкальных упражнениях Лёши наступал только летом, когда он ездил в пионерский лагерь. Лагерь был ведомственный, от городского отдела здравоохранения, так что Елене Степановне не составляло большого труда отправлять туда сына ежегодно. Лагерь находился в живописном месте на берегу Азовского моря, и Лёша с удовольствием проводил в нем две смены подряд.
В одну из лагерных смен, после шестого класса, Лёша оказался как-то на спортивной площадке, где ребята играли в баскетбол. Лучше всех играл высокий парень из первого отряда, которого все в лагере называли не по имени, а по фамилии – Каймакчи. Лёша с большим интересом наблюдал за его игрой, сидя на лавочке. Когда мяч после сильного броска парня улетел за пределы площадки, тот крикнул ему:
– Эй, пацан, мяч принеси.
Лёша спокойно посмотрел в ту сторону, куда улетел мяч, и ответил с достоинством:
– Эй, Каймакчи, ты на меня не кричи. – Но за мячом не побежал.
Все засмеялись от неожиданной шутки, а баскетболист с интересной фамилией двинулся в сторону Лёши.
– Тебе что, баскетбол не нравится?
– Нравится.
– Чего тогда за мячом не бежишь? Все на первых порах подносят мастерам мячи.
– Ну вот когда ты станешь мастером, тогда и я начну это делать.
– Ишь ты, умный какой… Ладно, научиться играть хочешь?
– Хочу.
– Ну, тогда айда на площадку.
С этого дня Лёша стал регулярно ходить на площадку и играть в баскетбол со старшими ребятами, а вернувшись из пионерлагеря, продолжал поддерживать с ними приятельские отношения. Благодаря этой игре он за одно лето вытянулся на целых одиннадцать сантиметров. И хотя всё равно оставался на две головы ниже своих новых друзей и на несколько лет моложе, по своим интересам и общему развитию Лёша отлично вписывался в компанию девятиклассников. Его так увлекла игра, что после летних каникул он записался в баскетбольную секцию спортивного общества «Динамо», а ещё через год стал играть за сборную команду своего района. Участвуя в городских и областных соревнованиях, Лёша выполнил норматив первого спортивного разряда.
2.8
В начале учебного года в седьмом классе с Лёшей произошёл инцидент, закончившийся приглашением родителей в школу. Поводом для этого явилось полное отсутствие у Лёши тетради по математике. Плюс его дерзкое поведение, выразившееся в том, что контрольную работу он сдал преподавателю Валентину Николаевичу Попову на одном листке. Причём записаны на этом листке были только условие каждой задачи и ответ, без изложения хода решения.
После урока Валентин Николаевич оставил Лёшу в классе для серьёзного разговора:
– Лёша, что за выходки? Почему ты так неуважительно ведёшь себя по отношению ко всем ученикам класса?
– Не понял, о чём это вы, Валентин Николаевич?
– Как о чём? О твоей контрольной работе, – показал учитель Лёше злополучный почти пустой листок.
– Извините, но я не собирался никого обижать. В любом сборнике задач принята такая система изложения учебного материала: формулируется условие задачи и приводится в конце сборника ответ.
– И как же мне проверить ход твоего решения?
– Я могу, конечно, если требуется, всё подробно написать. А если не хотите, то можете просто сверить мой ответ задачи с правильным, который у вас, наверняка, есть. Кстати, эти задачи я решал разными способами и получал в ответе одно и тоже.
– Скажи, Лёша, честно: тебе, наверное, скучно в своём классе заниматься математикой?
– Да. Очень скучно.
– Почему, если не секрет?
– Не секрет. Просто у меня старшая сестра училась на физическом факультете университета, и я её некоторые учебники по дифференциальному и интегральному исчислению уже прочитал.
– Понятно. Я расскажу о нашей беседе директору школы. Мы подумаем, что с тобой делать.
Через несколько дней после этого разговора Елену Степановну и Натана Захаровича пригласили к директору школы Николаю Фёдоровичу Судакову. Он предложил родителям Лёши перевести сына в специализированную школу с углублённым изучением математики, но после бурного обсуждения на семейном совете, это предложение было отклонено. На вторую встречу с директором школы Натан Захарович пошёл один.
– Ну, что вы решили? – участливым тоном спросил директор.
– Вы знаете, Николай Фёдорович, мы подумали и пришли к заключению, что нам это не подходит.
– Позвольте узнать, почему?
– Во-первых, мы не уверены, что через некоторое время Лёша не обгонит по программе свой класс и в специализированной школе. И тогда нужно будет принимать какое-то другое кардинальное решение.
– В этом пункте я могу с вами согласиться, хотя не знаю учебной программы специализированной школы. Хорошо, а что, во-вторых?
– А во-вторых, Лёше нужно будет добираться от нашего дома до новой школы двумя транспортами около двух часов. Значит, на дорогу каждый день ему придётся тратить четыре часа. А этого, при очень плотном графике его дневной нагрузки, мы не может допустить.
– Значит, переходить в специализированную школу вы не хотите. А что, в таком случае, вы хотите?
– Мы просим оставить Лёшу в вашей школе, но предоставить ему возможность учиться по индивидуальному графику. Кроме того, разрешить ему посещать лекции по математике и физике в университете.
– Хорошо, Натан Захарович. Пишите заявление на моё имя и изложите в нём свою просьбу. Мы рассмотрим ее на педагогическом Совете школы и примем решение.
Через две недели Натана Захаровича пригласил в школу классный руководитель Лёши и вручил ему выписку из решения педагогического Совета, состоящего из двух пунктов. В первом пункте ученику седьмого класса Алексею Соловьёву разрешалось посещение занятий по математике в восьмом класса этой же школы. Во втором – администрация школы ходатайствовала перед ректоратом Ростовского государственного университета о зачислении, в порядке эксперимента, ученика восьмого класса Алексея Соловьёва вольнослушателем на первый курс физического факультета с посещением занятий по графику, согласованному с деканатом.
2.9
В начале 1962 года подошло время Алексею Соловьёву получать паспорт. Процедура рутинная, все молодые люди через неё проходят без проблем. Натан Захарович заранее зашёл в районное отделение милиции и взял там для сына необходимые бланки. Вечером, когда Лёша вернулся с занятий из университета, он протянул ему их и сказал:
– Вот, Лёша, заполни, а я потом проверю.
– Папа, а зачем проверять? Я и сам в состоянии всё правильно написать, – возразил вдруг Лёша.
– На всякий случай, – ответил папа.
На следующий день, придя с работы, Натан Захарович заметил на верхней полки этажерки с книгами заполненные Лёшей в двух экземплярах бланки для паспортного стола. Всё было написано чётко и грамотно, но в графе «национальность» значилось: «еврей». Национальность детей многократно обсуждалась в семье Соловьёвых, когда три их дочери получали паспорта. Никто не возражал против записи «русская». При разговорах на эту тему Лёша всегда присутствовал, но делал вид, что это его не интересует. А сейчас, оказывается, у него есть мнение, отличное от общего. Натан Захарович хорошо знал своего сына. Если он что-то решил, то это не просто так. За этим стоит чёткая и продуманная позиция. В её пользу будут приводиться веские аргументы, ссылки на авторитетные источники. Поэтому, прежде чем затевать серьёзный разговор с Лёшей, Натан Захарович решил поставить в известность жену, не будучи уверенным, что беседа пройдёт гладко. И, к сожалению, оказался прав.
Сегодня Елена Степановна должна была вернуться с работы в шесть часов вечера. Никакого дежурства или дополнительных приёмов больных не планировалось. Натан Захарович помог жене снять пальто, подал тапочки. Настроение у Елены Степановны было хорошее. Правда, немного устала. Детей дома не было – все были вечером чем-то заняты.
– Ну что, Натан, будем обедать, а то неизвестно, когда все придут. Что-то ты неважно выглядишь. Случилось что-нибудь?
– Да нет, всё в порядке.
– Не уверена, судя по твоему виду. Давай рассказывай, пока я буду накрывать на стол.
Елена Степановна достаточно хорошо знала мужа, чтобы не заметить его подавленное состояние. Уже по голосу и манере отводить взгляд она точно знала: что-то произошло.
– Дело в том, Леночка, что Лёша сегодня заполнил бланки на получение паспорта.
– Ну, и что тут особенного?
– Ничего особенного, за исключением того, что в графе национальность он написал «еврей».
Елена Степановна без звука опустилась на табуретку. Побледнев, она какими-то не своими губами спросила у мужа:
– Зачем?..
– Что зачем? – переспросил Натан Захарович.
– Зачем он хочет стать евреем?
– Что значит стать? Он и так по моей линии еврей.
– Натан, перестань делать вид, что ничего не понимаешь!
– Да понимаю, конечно. Но в отношении нашего сына ситуация такая, что нужно будет с ним это обсуждать.
Лёша вернулся домой около десяти вечера. Накормив сына, Елена Степановна присела напротив него. Она решила поговорить с ним на тему получения паспорта сама – без нервов и криков со стороны мужа.
– Ну что, сыночек, как дела? Что нового?
– Да всё в порядке. Сегодня получил зачёт у профессора Михельсона. Он меня даже похвалил.
– А что ещё тебе осталось сдать за второй курс?
– Ой, мама, много чего. Но ты не волнуйся, всё будет в порядке.
– Да я не волнуюсь. Я с тобой о другом хочу поговорить. Мы сегодня с папой увидели бланки, где ты записал себя евреем…
– Да. Записал. Эта великая нация, и я хочу к ней принадлежать.
– Подожди, не торопись. Давай без лозунгов. Ты знаешь, что случилось с евреями во время Великой Отечественной войны, буквально двадцать лет тому назад? Тебя эта страшная катастрофа ничему не научила? Зачем тебе всю жизнь находиться «под прицелом» всяких мерзавцев? Зачем тебе специально подставляться? И потом, ещё твой дедушка говорил мне, что у евреев национальность передаётся по матери.
– Во-первых, все, кому надо и кому не надо, всё равно будут знать, что я еврей. У меня же отчество Натанович, а не Степанович, как у тебя. А во-вторых, я хочу гордиться своим сильным и умным отцом, а не прятаться за твоей, мамочка, спиной.
– Почему ты считаешь, что записать себя русским – это спрятаться за мою спину? Ты живёшь в советском государстве и являешься его гражданином. Что тут плохого? В нашей стране все равны.
– Всё правильно. Я в любом случае остаюсь гражданином своей страны, но евреем.
– Сыночек, я тебя умоляю: почитай серьёзные книги, посоветуйся с кем-нибудь. Не руби с плеча.
Елена Степановна, мужественная, волевая женщина, бывший фронтовой хирург, прошедшая все ужасы войны, смотрела на сына жалобными глазами. В них были мольба, боль, искренняя материнская забота. Но сын стоял на своём.
– Мама, ну с кем мне советоваться? Это не тот вопрос, по которому нужно у кого-то спрашивать совета. Я так чувствую, и никто меня в этом не переубедит. И потом. У всех народов национальность детей определяется по отцу, так как в его семени заложен весь генетический набор качеств будущего ребёнка. Не может из семян арбуза вырасти пшеница. Не может.
– А почему же у евреев всё иначе?
– В те далёкие времёна у евреев это был акт высочайшей гуманистической силы. Через Ближний Восток проходило бесчисленное множество племен. Еврейские мужчины тоже были в походах или на заработках. Установить, кто отец ребёнка, было практически невозможно. Поэтому было принято считать ребёнка евреем только в случае, если его мать еврейка. Подходу евреев к определению национальности по матери уже несколько тысяч лет, и он явно устарел. Ровно по этой же причине устарело понятие, что формированием личности ребёнка занимается женщина, а не мужчина. В этом акте больше экономической, чем моральной подоплёки.
– Очень хорошо. А теперь вернись к нашей семье.
– Пожалуйста, вернулся. По отношению к нашей семье оба тезиса спорны, если не сказать абсурдны. Ты же не сомневаешься, что моим отцом является папа?
– Конечно, не сомневаюсь.
– Далее. Сколько я себя помню, папа всегда был рядом со мной: книжки читал, в шахматы играл, на всякие кружки водил. Ты всегда была занята своей работой. А сколько времени мы с ним проговорили обо всём на свете, так и сосчитать нельзя.
Натан Захарович стоял за дверью кухни и слышал весь разговор жены с Лёшей. По большому счёту его уже не интересовал результат их беседы. Он был просто счастлив от того, что у него такой замечательный сын.
А ещё через два дня Елену Степановну и Натана Захаровича на кухонном столе ждала вечером записка:
Дорогие родители, пошёл оформлять паспорт. Я вас очень люблю, но своего решения не изменю.
2.10
Декан физического факультета профессор Докучаев сдержал своё обещание, данное полковнику Соловьёву, – подумать на тему распределения его дочери Ольги. В принципе, думать здесь было не о чем. Министерство высшего образования РСФСР прислало список мест распределения выпускников физического факультета, где, за исключением брони, сплошь были сельские школы. Оставался только один вариант – предоставить выпускнице Соловьёвой свободное распределение. Но для этого требовались серьёзные основания.
Беседовать по этому поводу со студенткой Соловьёвой лично казалось Докучаеву не совсем этичным. Декан должен стоять «на страже» выполнения распоряжения министерства, а не нарушать его. Поэтому наиболее подходящей кандидатурой для озвучивания рекомендации был заведующий выпускающей кафедрой, профессор Викентий Викентьевич Виноградов. Студенты называли его между собой «три вэ», так как выговорить его имя-отчество вслух было совсем не просто.
В конце рабочего дня, когда секретарь факультета ушла домой, декан позвонил на кафедру:
– Добрый вечер, Викентий Викентьевич. У вас есть время зайти ко мне?
– Ну конечно, Валентин Петрович. Сейчас приду.
Кабинет профессора Докучаева был просторный и светлый, с окном во всю стену. Слева от входной двери, в нише, располагался большой стол с приставкой, вокруг которого стояло несколько простых стульев. Старинная лампа с зелёным абажуром создавала в кабинете уютную, спокойную обстановку. Большую потолочную люстру Валентин Петрович почти никогда не включал, поэтому в кабинете всегда стоял таинственный полумрак. Справа от входа в кабинет, как бы за дверью, стояли журнальный столик и два кожаных кресла. Все на факультете знали, что если профессор Докучаев приглашает гостя за маленький столик, то разговор намечается тёплый и дружеский, а если за большой, то обещает быть официальным, а может, даже и нелицеприятным.
– Скажите, пожалуйста, Викентий Викентьевич, как по вашей кафедре прошло распределение студентов? – спросил декан профессора Виноградова, когда оба удобно расположились в креслах за маленьким столом.
– К сожалению, похвастаться нечем, – без энтузиазма ответил заведующий кафедрой.
– Что так? С чем связан такой пессимизм?
– Дело в том, Валентин Петрович, что ряд студентов остались недовольными местом работы, которое мы им предложили.
– Но список распределения молодых специалистов мы получили из министерства. Нравится он нам или нет, мы должны выполнять распоряжения сверху.
– Но это нечестно по отношению к нашим выпускникам, – не сдавался профессор Виноградов. – Пять лет назад мы приглашали их учиться в университете на перспективной специальности, позволяющей в будущем работать в научно-исследовательских институтах и проблемных лабораториях. А сей¬час, по окончании университета, посылаем учителями физики в школу, тем самым латая кадровые дыры министерства. Я уже не говорю о том, что для работы с учащимися школ нужно иметь соответствующую подготовку.
– Полностью согласен с вами, Викентий Викентьевич. И тем не менее такова реальность, в которой мы живём. Кстати, вы помните студентку Соловьёву Ольгу?
– Конечно, это одна из лучших наших студенток. Отличница, общественница, все годы принимала участие в научно-исследовательской работе кафедры.
– Ну так вот. Несколько дней назад ко мне приходил её отец с просьбой не посылать её в сельскую школу. Кстати, тоже, как и мы с вами, фронтовик. Гвардии полковник. Воевал на Северо-Западном фронте. Вся грудь в орденах. Я обещал ему подумать. Может быть, у вас есть какие-либо соображения по этой студентке, Викентий Викентьевич?
– К сожалению, нет. Штатное расписание нашей кафедры вам, Валентин Петрович, хорошо известно. У нас нет ни одной вакансии.
– А как вы смотрите на то, что мы дадим этой студентке право самостоятельного трудоустройства?
– Кафедра не будет возражать. Но для этого потребуется соответствующее обоснование.
– Вот и хорошо. Пригласите Ольгу Соловьёву к себе на кафедру и перескажите ей наш с вами разговор. А мы поддержим – что там у нее будет с «обоснованием».
В комиссию по распределению молодых специалистов физического факультета Ростовского государственного университета студентка пятого курса Соловьёва Ольга Натановна представила развёрнутое медицинское заключение, из которого следовало, что она, находясь во время Великой Отечественной войны в эвакуации в городе Воткинске, переболела брюшным тифом в тяжёлой форме. С учётом этого Соловьёва О. Н. постоянно, в течение года, нуждается в профилактической сдаче анализов при любом заболевании, в том числе и простудном. На основании данного медицинского заключения и выписке из протокола заседания выпускающей кафедры студентке Соловьёвой О. Н. предоставляется возможность свободного трудоустройства.
2.11
Поиском места работы для Оли занималась вся семья Соловьёвых. Папа и мама говорили на эту тему со своими друзьями и знакомыми, спрашивали у всех, кто мог чем-нибудь в этом вопросе помочь. Младшие девочки внимательно просматривали каждый день все местные газеты. Даже Лёша участвовал в решении проблемы, читая на заборах и стенах домов различные объявления. Несколько раз Оля созванивалась с будущими работодателями и ходила на собеседования. Как правило, речь шла о секретарских обязанностях или работе лаборантом. И каждый раз ей отказывали в приёме из-за диплома о высшем образовании, аргументируя тем, что для этих должностей она бесперспективна, так как при первой же возможности уйдёт от них.
Тема трудоустройства старшей дочери обсуждалась практически каждый вечер за ужином уже в течение двух месяцев. Однако сегодня разговор на эту тему пошёл в необычном русле, а инициатором его стала Даша.
– Странное дело. Мы с Наташей отлично окончили школу, готовимся к поступлению в вуз, а на нас никто никакого внимания не обращает. Все разговоры только об Ольке. Какая она бедненькая и несчастная. А может быть, нашей сестрице в данной непростой ситуации просто-напросто снизить планку требований и уже с неё начать расти вверх?
Все сидели и молчали, воздерживаясь от комментариев, но вечером, когда Елена Степановна и Натан Захарович остались на кухне одни, жена спросила мужа:
– Натан, что ты думаешь по поводу сегодняшнего Дашкиного выступления?
– Думаю, что она по большому счёту права. Пора спуститься с небес на землю и согласиться на то, что Оле в настоящее время предлагают.
– Но ей же предлагают должности вспомогательного персонала, – с некоторым возмущением заметила Елена Степановна.
– Ну, на это нам идти не следует, а вот поискать работу учителем физики в школе – имеет смысл.
– Вот и поговори завтра со своим директором школы.
– Хорошо. Попробую.
На следующий день после уроков Натан Захарович постучал в дверь директора Николаева.
– Заходи, Натан Захарович, не стесняйся, – приветливо встретил его Артём Иванович. – Давно не виделись. Ты занят своими делами, мне тоже всегда некогда.
Кроме руководства школой, Артём Иванович вел еще уроки истории в старших классах. Был он сухим и замкнутым человеком, со всеми всегда разговаривал официальным тоном, делая единственное исключение для Натана Захаровича, с которым был на «ты» ещё с военных времён.
– Давай, уважаемый, рассказывай, как твоя жизнь, – продолжал директор.
– Да всё по-старому. Ничего, кроме того, что дети растут, а мы стареем.
– Открыл Америку! И что, с этим оригинальным тезисом ты и пришёл ко мне?
– Не совсем, но почти угадал. Пришёл я к тебе, Артём Иванович, за помощью. Дело в том, что моя старшая дочь Оля в этом году окончила с отличием Ростовский университет, физический факультет, и получила свободное распределение. Но, к сожалению, уже в течение двух месяцев не может найти работу по специальности. Может, у тебя в школе есть вакансии?
– Должен тебя, Натан Захарович, огорчить. Мы в этом году вынуждены были уволить одного преподавателя физики, так как на седьмой и восьмой классы приходится, из-за военных лет, спад рождаемости. Но я поговорю с коллегами. Если будет что-нибудь интересное в других школах, сразу с тобой свяжусь.
2.12
Через три недели Артём Иванович сообщил Натану Захаровичу, что в одной вечерней школе требуется учитель физики. Однако расположена школа далеко от центра, в рабочем районе. Но если семье Соловьёвых это предложение подходит, то можно позвонить завучу и договориться о встрече.
На звонок Оли секретарь сообщила, что ей назначена встреча на два часа дня в субботу. В назначенное время Оля постучала в дверь кабинета заведующей учебной частью, которая оказалась немолодой полной женщиной с очень приятным голосом. Лидия Ивановна Парасюк пригласила Олю присесть за большой стол, наполовину заваленный бумагами, и после нескольких формальных фраз спросила:
– Скажите, Ольга Натановна, почему вы, закончив университет с красным дипломом, соглашаетесь работать в вечерней школе простым учителем физики?
– Дело в том, что я по состоянию здоровья получила право свободного трудоустройства. Но, к сожалению, нигде не могу найти работу по специальности.
– Но вы хоть немного представляете себе специфику учебного процесса в вечерней школе?
– Нет, не представляю.
– Хорошо, тогда я очень кратко введу вас в курс дела. Во-первых, ваши ученики будут, как правило, старше вас. Во-вторых, из-за посменной работы и всяких там авралов они будут пропускать занятия. В-третьих, задёрганные производством и семьёй, они нередко будут приходить в школу с невыполненными уроками.
Заметив растерянное лицо Ольги, Лидия Ивановна от души рассмеялась.
– Вы не огорчайтесь, Ольга Натановна. В нашей работе есть, кроме минусов, и плюсы. И самый большой из них – огромное уважение наших учеников к своим учителям. А это дорогого стоит. Вам теперь общая картина стала более понятной?
– Да, спасибо.
– Вот и хорошо. Подумайте над тем, что я вам рассказала. А если решитесь – приходите: у нас как раз учительница физики в декретный отпуск уходит. Так что минимум на год я вам ставку гарантирую, а дальше видно будет.
2.13
Прошёл год, как Оля Соловьёва начала работать в вечерней школе преподавателем физики. Отношения с коллегами у неё были сугубо деловыми, а точнее – никакими, так как, придя в школу, она сразу шла в кабинет физики и находилась там до конца рабочего дня. А вот отношения с учащимися у Оли складывались замечательно: все с удовольствием общались с молодой учительницей, которая всегда была готова ответить на любой вопрос.
Второй преподаватель физики – Михаил Иванович Карликов, часто жалующийся на здоровье пожилой человек, все заботы по физическому кабинету переложил на плечи Оли. В школе ни для кого не было секретом, что вечерами Михаил Иванович попивает. Ходили также разговоры, что Олю приняли на работу, так как в конце учебного года старый физик собирается на пенсию. Это было и так, и не так. Михаил Иванович и в самом деле подумывал в скором времени уйти на пенсию. А вот с Ольгой он вёл весьма интересные разговоры.
– Олечка, – так Михаил Иванович ласково называл свою молодую коллегу, – вам ни в коем случае нельзя надолго задерживаться в школе. Причём неважно в какой – вечерней или дневной. Вы должны заниматься наукой и поступать в аспирантуру. У вас редкое сочетание исследовательского склада ума и колоссальной работоспособности.
– Спасибо, Михаил Иванович, за тёплые слова, но мне нужно отработать три года как молодому специалисту.
– Совсем нет. Вы же пришли в школу не по распределению, а на основании свободного найма. Так что у вас совсем другие условия увольнения. А хотите, я вас познакомлю с одним из своих выпускников? Он работает на кафедре физики Ростовского института инженеров железнодорожного транспорта и серьёзно занимается рентгеновской спектроскопией.
– Конечно, хочу. Это почти моя специальность. Я по ней университет оканчивала.
– Вот и хорошо. Вам будет о чём с ним поговорить. А теперь записывайте номер телефона его кафедры. Спросите Михайлова Доната Михайловича. Скажите, что от меня.
Несколько дней Оля уговаривала себя позвонить Михайлову, но всё время находила причины этого не делать. Наконец, оставшись дома одна по причине лёгкого недомогания, она набрала его номер.
– Простите, можно пригласить к телефону товарища Михайлова?
– Сегодня Дона на кафедре не будет. Что ему передать? – спросил кто-то безразличным тоном.
– Спасибо. Ничего не надо.
– Пожалуйста. – И положил трубку.
Только на третий раз к телефону подошёл сам Михайлов.
– Дон вас слушает. Говорите.
– Извините, вас беспокоит Оля Соловьёва. Мне ваш телефон дал Михаил Иванович Карликов. Я закончила в прошлом году физический факультет Ростовского университета, и Михаил Иванович сказал, что нам с вами будет интересно поговорить на тему спектроскопии.
– Ничего не понял. Но давайте «для поговорить» подъезжайте в наш институт завтра к двенадцати часам. Я буду вас встречать в вестибюле около вешалки. У меня рыжая борода. Договорились?
– Договорились, – только и успела сказать в ответ Оля.
2.14
То, что Донат Михайлов – личность уникальная, Оля поняла сразу, но о чём с ним говорить, она не представляла. Плохо, что сегодня на работе не будет Михаила Ивановича, с которым можно было бы посоветоваться по поводу завтрашнего разговора. Но потом она вспомнила слова отца, который часто повторял: «Если тебе нечего сказать человеку при встрече, задай ему вопрос. Он начнёт на него отвечать и, скорее всего, плавно перейдёт на рассказ о себе. А дальше уже видно будет».
В двенадцать часов дня в вестибюле центрального корпуса Ростовского института инженеров железнодорожного транспорта практически никого не было. Вторая пара занятий должна была закончиться только через двадцать пять минут. Сдав в гардеробной свой плащ и получив номерок, Оля поискала глазами Доната. Рядом с мраморной лестницей на второй этаж она увидела молодого рыжебородого мужчину. Донат тоже заметил у гардероба девушку, которая, сдав на вешалку плащ и берет, не побежала прямиком к зеркалу, а просто поправила волосы рукой.
Подойдя к Донату, Оля протянула руку:
– Соловьёва Ольга Натановна, преподаватель физики.
– А я Дон. Просто Дон. Ну и о чём, милая девушка, вы хотели со мной поговорить?
– А мы что, так и останемся стоять в вестибюле?
– Понимаете, уважаемая Ольга Натановна, я ассистент. Отдельного кабинета, к глубокому сожалению, не имею. На кафедре всегда много людей, и поговорить нам спокойно не дадут. Так что могу предложить для нашей беседы шикарный подоконник на втором этаже, который находится в моём персональном распоряжении без ограничения времени.
Оля улыбнулась шутке Дона, и ее неуверенность сразу куда-то исчезла. Они взгромоздились на подоконник и проговорили на вся-кие темы почти два часа. Однако на основной вопрос, касающийся научной деятельности и последующего поступления в аспирантуру, времени не хватило. Посмотрев на часы, Оля засобиралась на работу.
– Знаете что, Дан…
– …Дон.
– …да, Дон, запишите, пожалуйста, мой домашний телефон и позвоните, когда у вас будет свободное время. Мы продолжим наш разговор, если не возражаете.
И через день он позвонил. Ему понравилась эта умная, серьёзная, думающая девушка. А ещё через месяц Дон представил Олю заведующему кафедрой физики, профессору Виталию Андреевичу Гладкову.
После короткого разговора профессор предложил Оле поступать на следующий год к нему в очную аспирантуру. Гладков был учёным с мировым именем, автором ряда монографий и учебников, по которым училось не одно поколение студентов. Но, прежде всего, это был умный и интеллигентный человек, чья доброжелательная улыбка и уважительная манера беседовать с любым как с равным, независимо от занимаемого положения, никого не оставляли равнодушным. И даже когда профессор высказывал своё критическое мнение по какому-либо поводу, делал он это с таким тактом, что человек был только благодарен ему за его слова.
2.15
Донат и Оля встречались уже почти полгода, правда, только по выходным, так как в будние дни Оля вечерами была занята в школе. Но этого для них было явно недостаточно, так как они всё больше чувствовали потребность видеть друг друга каждый день. И однажды Донат предложил:
– Оля, знаешь, что я подумал: а давай я буду встречать тебя вечером с работы и провожать домой, вместо твоего папы? Зачем затруднять пожилого человека?
– Ну, во-первых, мой папа никак не тянет на определение «пожилой человек». В нём ещё столько энергии, что молодые могут позавидовать. А во-вторых, чего ты, Дон, хитришь? Хочешь видеться со мной, кроме выходных, ещё и в будние дни? Так и скажи.
– Честно признаюсь – хочу. Тебя не проведёшь.
– Ладно, пойдём навстречу пожеланиям рыжебородых трудящихся!
С этого дня возвращение Оли с работы растягивалось почти на два часа. Родители каждый день с волнением ожидали позднего прихода дочери, пока, наконец, не взбунтовались. Когда Оля в очередной раз пришла домой за полночь, Натан Захарович заявил:
– Ну, вот что, Оля, хватит этой конспирации. Давай, приводи к нам домой моего дублёра. А то мы с мамой получим, в конце концов, инфаркт.
– Я готова. Вы только скажите, когда нам с Доном придти.
– Давай в субботу, если мать не возражает. Лена, ты до какого часа в субботу работаешь?
– До двух.
– Ну вот и приходи со своим Педро на обед к трём часам.
– С Доном, папа. С Доном.
– Ну, хорошо. С Доном. А как его, на самом деле, зовут?
– Донат. Донат Михайлов. А в институте его все от преподавателей до студентов называют просто Доном.
– Ясно, – подытожил Натан Захарович. – Ну, ты, дочь, хоть пару слов о нём скажи. Чтобы было понятно, кто он и чего.
– Дон на два года раньше меня окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта с красным дипломом и сразу был принят в аспирантуру по кафедре физики. На этой кафедре он со второго курса занимался люминесцентным анализом и в настоящее время готовит по этой теме диссертацию.
– Так это он познакомил тебя с профессором Гладковым, о котором ты нам рассказывала? – спросила Елена Степановна, которая до этого делала вид, что разговор между дочерью и мужем ее мало интересует.
– Да, он. Что ещё можно добавить? Сам Дон из Азова. Закончил там школу с золотой медалью. Мама учительница, папа работает на какой-то автомобильной базе. Сестёр и братьев у него нет. По национальности украинец. Рассказывал, что у него кто-то из предков был активным участником создания Запорожской Сечи. Устраивает вас?
– Вполне. Веди своего казака.
2.16
К обеду, который готовил сам папа, собралась вся семья Соловьёвых. Мама отказалась от частного приёма больных, а близнецы Даша и Наташа сбежали с последней пары лекций. Даже Лёша, вечно куда-то спешащий, остался в субботу дома. Все предвкушали знакомство с Олиным «женихом».
Около трёх часов дня раздался звонок в дверь, и на пороге появилась Оля. Дверь открыл Лёша, который всегда успевал делать это первым. За Олей стоял молодой человек с рыжей бородой.
Борода Дона всегда выделяла его из толпы. Достаточно было один раз её увидеть, чтобы запомнить его навсегда и больше никогда ни с кем не попутать. История появления этой «достопримечательности» у Дона была связана с переходным возрастом, когда на его лице стали выскакивать прыщи. Борьба с ними при помощи различных мазей не приносила успеха. Врачи только успокаивали, что со временем это само пройдёт. Такой «пассивный» подход к собственной внешности Дона не устраивал, и он начал отпускать бороду. С одной стороны, борода облегчала Дону общение с людьми, а с другой, иногда приводила к нежелательным последствиям — он выглядел каким-то отстранённым и заносчивым. Однако стоило ему улыбнуться, как его смешливые серые глаза в сочетании с рыжей бороды делали Дона очень симпатичным и приятным молодым человеком.
Стол накрыли на кухне. Это означало, что никакого официоза нет. Семья Соловьёвых будет просто обедать и предлагает гостю к ней присоединиться. Обед, как обычно, состоял из первого блюда, второго и компота. Закуска и выпивка за столом отсутствовали. Правда, перед обедом Натан Захарович заикнулся было по поводу рюмочки чая, на что Елена Степановна ответила ему, чтобы он не позорился перед детьми.
Как-то само собой получилось, что на Дона никто особого внимания не обращал и никаких вопросов ему не задавал. Все члены семьи Соловьёвых за обедом вели себя по отношению к гостю естественно и корректно. С Лёшей родители предварительно провели соответствующую беседу и попросили его побольше помалкивать. И всё-таки Лёша не удержался и в конце обеда обратился к молодому человеку:
– А скажите, дядя Донат…
– Можно просто Дон, – перебил его гость.
– А скажите, Дон, вы играете в шахматы?
– Да, но не очень сильно. У меня только второй разряд.
– Ничего себе. А давайте сыграем?
– Давай.
С этого момента Лёша уже не отпустил от себя Дона. Сыграв с ним шахматную партию вничью, он потом до самого вечера всем рассказывал, какой Дон хороший парень.
И Дон с того дня стал в семье Соловьёвых, в самом деле, желанным гостем. С Еленой Степановной он регулярно обсуждал рецепты приготовления казацкой еды. С Натаном Захаровичем разгадывал кроссворды, а близнецам помогал выполнять студенческие задания. Для Лёши, после того как он сыграл с Доном в футбол против дворовых пацанов, он стал единственным и непререкаемым авторитетом.
2.17
В 1959 году в семье Соловьёвых произошли два знаменательных события: старшая дочь Оля поступила в очную аспирантуру Ростовского института инженеров железнодорожного транспорта по кафедре физики, а младший сын Лёша, ученик седьмого класса средней школы, был официально приглашён на собеседование в деканат физического факультета Ростовского государственного университета.
В университет Лёшу сопровождали мама, папа и Оля. Близнецы должны были подойти к назначенному часу, но не смогли из-за сдачи какого-то важного зачёта. Руководила мероприятием Оля, которая сказала родителям, чтобы они ожидали её с Лёшей в вестибюле.
У Оли было праздничное настроение: приятно было придти через два года в свой университет, да ещё привести с собой младшего брата. В деканате Олю встретили объятиями и поцелуями. Забросали вопросами: что она делает, где работает, по какому поводу пришла? А когда узнали, что Оля сопровождает младшего брата, радостным восклицаниям не было конца.
– Вот, Олечка, представление на твоего брата, посланное школой с резолюцией декана, – вынула секретарь факультета из папки «С подписи» какую-то бумагу. На ней сверху было написано:
Заместителю декана
доценту Новосёлову В. П.
Прошу обеспечить проведение собеседования с Алексеем Соловьёвым.
Число, подпись
Доцент Новосёлов отвёл Олю и Лёшу на кафедру высшей математики. Все преподаватели, за исключением доцента Колобова, были на занятиях.
– Николай Петрович, по поручению профессора Докучаева нужно побеседовать вот с этим молодым человеком и оценить возможность его обучения в нашем университете на правах вольнослушателя.
Поручения деканата выполнялись на факультете, как правило, беспрекословно, но доцент Колобов неожиданно возмутился:
– Извините, а почему я? Я же не приёмная комиссия!
– Понимаете, Николай Петрович, данный юноша ещё учится в школе, но желает прослушать университетские курсы по математике и физике. В случае положительного результата вашего с ним собеседования, мы его зачислим вольнослушателем на первый курс физического факультета.
– Ну, хорошо, давайте попробуем. Вас как звать, молодой человек?
– Алексей Соловьёв.
– Вот вам, Алексей, задача. Ваши предложения по её решению.
Когда Лёша решил задачу, Николай Петрович дал ему ещё одну, потом ещё. Покончив с очередной задачей, Лёша заявил доценту Колобову:
– А вот эту задачу можно решить и более изящным образом. Хотите покажу?
– Покажи… Ну, ты просто молодец!
Все рассмеялись, а доцент Колобов объявил:
– Хороший парень. Вполне готовый студент.
И только тут Оля вспомнила, что в вестибюле их уже несколько часов дожидаются мама с папой. Вместе с Лёшей они бегом спустились по лестнице и с криком «ура» бросились в объятья родителей.
– Ну, что? – нетерпеливо спросил Натан Захарович.
– Всё в порядке, – ответил Лёша. – Сказали, что мне можно посещать занятия.
– Вот видишь, Лена, сын весь в меня. Такой же умный и красивый.
– Прекрати, Натан, эти разговоры, не порти мне ребёнка, – одёрнула мужа Елена Степановна.
И счастливая семья Соловьёвых отправилась домой.
2.18
На следующий день распоряжением по физическому факультету Алексей Соловьёв был зачислен вольнослушателем на первый курс Ростовского государственного университета. Однако из-за не совпадения расписаний в школе и вузе Лёша посещал не все лекции и практические занятия в университете. В связи с этим он был обязан в конце каждого месяца предоставлять своему куратору соответствующий отчёт по пройденному материалу. Куратором Лёши по его просьбе был назначен доцент Колобов, который проводил с ним первое собеседование. Мальчик ему тоже очень понравился, и Николай Петрович получал от общения с ним истинное удовольствие. В дополнение к текущим заданиям Колобов готовил Лёшу к зональным и всесоюзным олимпиадам по физике и математике, где тот, как правило, занимал призовые места.
Через месяц после зачисления в университет Лёша пошёл записываться в библиотеку. Дежурный библиотекарь, увидев Лёшу в читальном зале, с недоумёнием спросила:
– Тебе что нужно, мальчик? Это университетская библиотека.
– Я хочу записаться в библиотеку и заказать книгу, – ответил Лёша и протянул библиотекарю свой студенческий билет.
С любопытством посмотрев на юного студента, она спросила:
– Какая книга тебя интересует?
– Я бы хотел посмотреть книгу «Русская техника» под редакцией профессора Данилевского.
– В библиотеке, мальчик, книги читают, а не смотрят, – строгим голосом заметила библиотекарша.
– Извините. Конечно, почитать, – поправился Лёша.
– Эту книгу нужно заказывать по каталогу. На исполнение заказа требуется приблизительно час времени. А пока ты можешь посмотреть журналы и газеты, которые есть в свободном доступе.
– Хорошо, спасибо. А у вас есть журнал «Шахматы в СССР»?
– Да, есть. Он лежит вместе со всеми.
После того как Лёша получил заказанную книгу, он нашёл свободный стол с настольной лампой и погрузился в чтение. Книга имела множество иллюстраций и была объёмом более четырёхсот страниц. Владея от рождения способностью видеть сразу всю страницу, а не отдельные строчки, Лёша за несколько часов полностью её прочитал. Когда в конце вечера он сдавал книгу, библиотекарь его спросила:
– Мальчик, тебе оставить эту книгу на следующий раз или как?
– Нет, спасибо, я уже её прочитал, – ответил, уходя, Лёша.
Обомлевшая библиотекарша с нескрываемым интересом проводила его взглядом, но от комментария воздержалась.
2.19
В 1963 году Алексей Соловьёв закончил среднюю школу города Ростова-на-Дону с золотой медалью и одновременно два курса физического факультета (блок физико-математических дисциплин) Ростовского государственного университета. Ни у кого не было сомнения, что он продолжит обучение в университете, но всё оказалось совсем не так. Однажды за ужином, когда семья Соловьёвых обсуждала перспективы своих финансовых возможностей в связи с возможным выходом Елены Степановны на пенсию, Лёша заявил:
– Мама, а что вы так расстраиваетесь по поводу уменьшающегося семейного бюджета? Я собираюсь поехать учиться в Москву, и там сам себя буду обеспечивать.
– Ничего не понял, – вступил в разговор папа. – В какую Москву?
– Как в какую? В столицу нашей родины, – усмехнулся Лёша. – Или вы думаете, что мальчик Лёша будет продолжать бегать по Ростову в коротких штанишках и неукоснительно претворять в жизнь родительскую программу жизни?
– И где же, если не секрет, вы, Алексей Натанович, собираетесь учиться в Москве? – с ехидцей спросил папа.
– В МВТУ имени Баумана. Высшее техническое училище. А точнее, самый престижный технический институт в Советском Союзе.
– Послушай, сын, а с чего это ты вдруг надумал туда поступать?
– Почему вдруг? Совсем не вдруг. Во-первых, мне скучно учиться в университете. Законы, формулы, доказательства… Я хочу что-нибудь изобретать, конструировать, создавать, запускать. В общем, хочу заниматься космическим машиностроением.
– Ну, а во-вторых?
– А во-вторых, мои друзья собираются ехать учиться в Москву.
– Какие друзья?
– Да так. Разные.
– Что-то ты темнишь, Лёша.
– Да не темнит он, папа, – вмешалась в разговор Даша. – Он просто стесняется сказать, что едет в Москву за Катькой Иванцовой. Лёшка по ней сохнет уже третий год.
– Это правда, Лёша?
Лёша обречённо мотнул головой. Врать он не умел, а обманывать своих родителей не хотел. Всё и в самом деле было связано с его одноклассницей Катей. Влюблённый Лёша готов был ехать за ней не то что в Москву, а хоть на край света.
Разговор между Лёшей и Катей состоялся ещё полгода назад, когда он вместе со своим другом Витей Соколовым провожал Катю домой.
– Ну что, птички мои (так все в классе называли Лёшу и Витю), куда вы собрались поступать после школы? – спросила у них Катя.
Находчивый Витя, который тоже не совсем ровно дышал к Кате, решил сыграть на опережение и задал встречный вопрос:
– А ты куда?
– Хочу учиться в Москве, в Плешке. Мне тётя посоветовала поступать туда. Она работает в Ростовском гортопе.
– Ничего не понял, – перебил Катю Лёша. – Чья плешка? Что такое гортоп?
– Ну, ты деревня, Соловей. Плешка – это Московский институт народного хозяйства имени Плеханова, а гортоп – топливный отдел Ростовского горисполкома.
– Понятно. А мы тоже едем поступать в Москву. Правда, Соловей? – влез снова в разговор Виктор. – Но не в твою, Катька, барахолку, а в серьёзный институт.
– Не в барахолку, а в Плешку, – обиженно огрызнулась Катя.
– Ну ладно, особого значения не имеет.
– И в какой же институт вы собрались поступать?
– В Московское высшее техническое училище имени Баумана – МВТУ, – веско ответил Лёша.
– Ага, – согласно закивал головой Виктор.
– Мне тётя говорила, что иногородним в московский институт поступить трудно.
– Будем очень стараться, – ответил за двоих Виктор. – Не боги ведь горшки делают.
– Обжигают, – поправил его Лёша.
– Что обжигают?
– Горшки, Витя, горшки. Читай, друг мой, классиков.
– Не выпендривайся, Соловей. Катька и без того знает, что ты у нас самый умный.
– И это правильно, как говорит наш директор школы. Пока, ребятня.
На этом разговор о будущей жизни между Катей, Виктором и Лёшей в этот день закончился.
Глава 3. Разочарования
3.1
Семёнов быстро вскипятил воду в чайнике, достал из вещмешка две алюминиевые кружки и разлил по ним кипяток. В каждую кружку бросил какой-то травы и помешал палочкой. Потом ещё порылся в мешке и вытащил оттуда четвертушку хлеба. Разломил её пополам и дал кусок заключённому.
– Вы знаете, Воронов, я сразу понял, что они не вернутся за нами. Старший уполномоченный Колосков даже не показал место на карте, куда они направляются. А если и вернутся – не хочу я с ними никуда идти.
Воронов внимательно посмотрел на Семёнова. Тот был серьёзен и собран. По всему было видно, что конвойный принял для себя какое-то трудное, но окончательное решение и ему нужно выговориться.
– А знаете, что я еще вам скажу? – продолжал Семёнов, глядя прямо в глаза Воронову. – У нас точно такой же начальник, как Колосков, три года назад бегал по деревне с пистолетом. Кого-то искал, наверное. А может, спьяну. Потом прицепился к мальчонке, который голубей гонял, пистолетом ему начал в грудь тыкать, кричать. Тётка Матрёна заслонила собой сына, так он её застрелил. У нас в семье никто никогда не любил советскую власть…
Семёнов замолчал, как бы собираясь с духом, потом заговорил снова:
– В общем, нашёл я тут километрах в пятнадцати отсюда старое зимовье. В нём уже давно никто не живёт. Приведём его в порядок, и на первых порах у нас будет крыша над головой. Сейчас потихоньку туда и пойдём.
– Подожди, Николай! Так ты хочешь дезертировать из армии?
– Да, хочу.
– Но ты понимаешь, что за нарушение воинской присяги тебе полагается расстрел?
– Понимаю, но другого случая может не представиться. А искать нас не будут, я уверен. Старший уполномоченный Колосков так торопился, что даже фамилию мою перепутал, когда отдавал приказ вас конвоировать. Да и никогда они нас в этой глуши не найдут. Мы тут переждём маленько и пой¬дём дальше. А там найдём жильё получше или новое построим.
Семенов говорил быстро и горячо, словно боялся, что его перебьют, но Воронов попытался остудить его пыл.
– Подумай, Николай, на что идёшь. Мне как заключённому просто добавят срок за побег, а тебя сразу в расход пустят. Ты ещё молодой, тебе жить да жить надо.
– Интересное дело получается! Я, деревенский парень с четырьмя классами образования, уговариваю вас, политического, врага народа. А вы еще и отказываетесь.
– Я не отказываюсь. Да и какой я враг? Вся моя вина в том, что я родился не в той семье и не в то время. А сейчас и семьи-то никакой у меня не осталось. Но хочу предостеречь тебя от необдуманного поступка.
– Уж сколько я думал — передумал – и не передать. В общем, собирайтесь, пойдём смотреть наше новое жильё, пока ещё светло. Давайте, помогу вам встать на ноги.
3.2
Сегодня природа устроила показательное выступление. Ветер со снегом дул такой силы, что сорвал с цепи собачью будку. Увидев, что начинается чёрная пурга, Николай заблаговременно пустил большую тундровую собаку по кличке Таможня в балок. Эту кличку собаке дали хозяева, когда нашли её маленьким испуганным щенком.
– Ну, теперь у нас есть защита от всех врагов, – шутил тогда Воронов. – Такую собаку никто не одолеет.
Таможня благодарно ткнулась носом в руку Николая, когда он её завёл в балок, и разлеглась около порога. В балке было тепло и тихо – только потрескивали в печке дрова. Сегодня они гостей не ждали, хотя была суббота. Нужно быть ненормальным, чтобы выйти в такую погоду на улицу.
– Александр Николаевич, вы мне при первом нашем знакомстве рассказывали, что мальчишкой попали с белой эмиграцией в Турцию. Там всегда жарко или бывает всё-таки холодно, как у нас в России? – спросил Семёнов Воронова.
– Летом там хорошо, тепло, много фруктов и овощей. А вот зимой даже при плюсовой температуре холодно и сыро. Я около года жил с родителями в Константинополе, в его азиатской части. Там квартиры были дешевле. Хозяин дома, где мы снимали квартиру, топил котёл только несколько часов по утрам. В остальное время нужно было просто хорошо одеваться.
– А ваши родители где-нибудь в Турции работали?
– Понимаешь, Николай, эмиграция – это не перемена места жительства. Это катастрофическое изменение душевного состояния человека, переход от гордости и самодостаточности к презрению и самобичеванию. Папа оказался более готовым к переезду в другую страну и более гибким во всех отношениях, чем мама. Он уже через неделю пел по вечерам в русском ресторане. У него был небольшой, но очень приятный голос. Мама же, вместе с моей старшей сестрой, целыми днями сидела дома и проклинала папу за его авантюру с отъездом из России.
– А вы что делали в это время?
– Ничего. Начальное образование я получил в семье, когда мама со мной занималась, а в Турции нигде не учился. Днём читал книги на французском, которых у хозяина была целая библиотека. Вечером ходил с папой в ресторан.
– Зачем в ресторан?
– В ресторане было всегда тепло, и можно было согреться. А после закрытия нас с папой иногда бесплатно кормили. Кроме того, весь вечер слушая турецкий язык, я уже через полгода бойко говорил по-турецки.
– Так вы, получается, неплохо там, в общем-то, устроились.
– Это только тебе кажется. Дело в том, что через какое-то время папе надоело петь, он ушёл из ресторана и стал играть на скачках. В основном проигрывал. А потом и вовсе запил. Сидел и плакал. Его замучила ностальгия.
Николай внимательно слушал рассказ Воронова о далёкой заморской стране, её народе, тёплом море, обычаях и привычках. Вопросов почти не задавал, но, услышав незнакомое слово, спросил:
– Александр Николаевич, а что такое ностальгия?
– Ностальгия – это тоска по чему-то утраченному. Я, кстати, тоже спросил в своё время у папы, что означает это слово.
– И что он ответил?
– Он сказал: у каждого человека своя ностальгия. А потом добавил: «Понимаешь, сын, я здесь просто задыхаюсь. Мне не хватает российских запахов. Запаха матери, полевых цветов, свежескошенного сена, прелых осенних листьев, ранней клубники и ещё много другого. Вот так».
3.3
На ростовском железнодорожном вокзале вся семья Соловьёвых провожала Лёшу в Москву поступать в институт. Фирменный поезд «Ростов – Москва» должен был отправиться с первого пути, но на всякий случай, если возникнут изменения в расписании, пассажиры ожидали его прибытие на втором этаже галереи. В Москву вместе с Лёшей ехал Натан Захарович. В связи с серьёзностью момента, как он всем объявил, к пиджаку своего костюма, с левой стороны, он прикрепил внушительного размера орденскую планку, а с правой – значок инвалида Великой Отечественной войны. Какую роль он собирался играть в этой поездке, никто не знал, но отговаривать его было бесполезно. Несколько раз Натан Захарович ходил смотреть информационное табло, зачем-то заглядывал в справочное бюро. Было заметно, что он нервничает, хотя особых причин для этого не было.
– Натан, кончай мелькать перед глазами – от этого поезд раньше не придёт, – одернула Елена Степановна мужа.
В то время как Натан Захарович суетился, она с трудом удерживала за руку своего трёхлетнего внука Дениса. Тот, переживая, что дедушка всё время куда-то уходит, рвался сесть на его чемодан, чтобы его не украли. Небольшого роста, крепенький малыш, он темпераментом и рыжими волосами был копия отец. Денис не мог стоять на месте и ничего не делать, а так как взрослые не обращали на него внимания, то своим поведением он их постоянно провоцировал. По аналогии с Натаном Захаровичем, которого родные и друзья называли «эн зэ», Дениса Донатовича все называли «дэ дэ». Такое обращение к ребёнку, ёмкое и звонкое, всем окружающим очень нравилось. Но больше всех этим был доволен сам Денис.
Лёша тоже вёл себя как-то неспокойно: невпопад отвечал на вопросы провожающих и всё время оглядывался. Причиной его возбуждённого состояния было то, что в Москву этим же поездом должна была ехать Катя Иванцова. К сожалению, Лёша точно не знал дату её отъезда – сегодня или в какой-то другой день. На всякий случай он договорился с Катей встретиться в ближайшую субботу в семь часов вечера под часами на Центральном телеграфе. Друг Лёши Витя Соколов от поступления в московский институт отказался. Под хохот друзей он честно признался, что уровень его школьных знаний, в особенности по математике, не позволяет ему выезжать за пределы Ростовской области. По совету своих родителей Витя решил поступать в Ростовский медицинский институт на лечебный факультет. При этом всем, кто смеялся над его выбором, он пообещал, что, став врачом, жестоко отомстит.
Посадка на поезд была объявлена точно по расписанию. Провожающие целовали папу и Лёшу в несколько заходов. Пожеланиям и причитаниям вперемежку со слезами не было конца. Можно было подумать, что Лёша уезжает куда-то в Сибирь на золотые прииски, а не поступать в столичный вуз. При этом оказалось, что Елена Степановна умудрилась насобирать три больших чемодана вещей. На все вопросы, зачем так много, она отвечала: один чемодан – вещи Натана Захаровича, второй – с продуктами, а третий – для Лёши. Но никто не сомневался, что она снарядила своего младшенького на все случаи жизни.
Сев в поезд, Натан Захарович тут же достал из чемодана съестные припасы и стал угощать соседей по купе. До Воронежа с ними ехала молодая пара. За трапезой отец выложил попутчикам всю подноготную сына: что Лёша закончил школу с золотой медалью, что параллельно со школой учился в Ростовском государственном университете и сдал контрольные экзамены по математическому блоку дисциплин за весь университетский курс. Сейчас они едут поступать в МВТУ имени Баумана – самый лучший технический вуз в Советском Союзе. Когда молодая пара сошла и в купе подсели двое командировочных, Натан Захарович не поленился снова повторить им свой рассказ о Лёше.
3.4
Было далеко за полдень, когда ростовский поезд подошёл к Казанскому вокзалу. Чтобы получить направление на проживание в общежитие, Соловьёвым нужно было успеть попасть в приёмную комиссию института до конца рабочего дня. Натан Захарович подхватил два чемодана и быстро пошёл в сторону привокзальной площади. Лёша со своим чемоданом и школьным портфелем еле поспевал за отцом. В очереди на такси они были третьими. Ждать пришлось не более десяти минут. Водитель, молодой приветливый парень, вышел из машины и помог поставить чемоданы в багажник. Сев на своё место, спросил:
– Куда едем, уважаемые?
– В приёмную комиссию МВТУ имени Баумана.
– До корпуса, где приёмная комиссия, не довезу, но постараюсь как можно ближе. С учётом того, что вы с чемоданами.
– И много желающих поступить ты уже отвёз туда? – спросил общительный Натан Захарович.
– Нет, не много, – ответил водитель такси.
– Почему? – не унимался Натан Захарович.
– Потому что институт серьёзный. Никто не хочет свернуть себе шею на вступительных экзаменах.
– Молодец. Хороший ответ. Но мы с сыном этого не боимся.
– Удачи вам.
Очереди в приёмной комиссии на сдачу документов не оказалось, и всё было закончено в течение двадцати минут. Но, закрыв папку, в которой уместилась вся Лёшина жизнь от рождения до сегодняшнего дня, беседующая с ними женщина сказала:
– Документы у вас в порядке, но вы, молодой человек, должны подойти послезавтра в комнату номер112 на собеседование по математике.
– Какое еще собеседование? – удивленно спросил Натан Захарович. – У моего сына золотая медаль.
– Я вижу, что есть медаль, но у нас такие правила. Бывает, что абитуриент с медалью и грамотами различных олимпиад, а собеседование не про¬ходит.
– Всё бывает. Жуликов на белом свете много, – огрызнулся Натан Захарович. – До свидания.
Собеседование проводил молодой человек лет двадцати пяти. Из направления приёмной комиссии он занёс в свою ведомость фамилию и имя Лёши, после чего молча положил перед ним чистый лист бумаги и написал на нём первое задание. За ним последовало второе, третье, четвёртое. После правильного ответа на пятое задание проверяющий так же молча поставил в направлении «отлично», расписался и отдал документ Лёше. А ещё через две недели Алексей Натанович Соловьёв был принят на первый курс МВТУ имени Баумана на факультет «Энергомашиностроение». Всем зачисленным в институт была назначена стипендия.
С получением места в общежитии тоже проблем не было. Лёша поселился в двухместной комнате с мальчиком из Новосибирска, как и он, зачисленным на первый курс. Хотя при поселении в общежитие наличия золотой медали оказалось недостаточно – основную роль в положительном решении этого вопроса сыграла справка о том, что Лёша из многодетной семьи.
На следующий день после зачисления студентов первого курса распределили по трём строительным бригадам. Бригада, в которую попал Лёша, состояла из демобилизованных солдат и медалистов. Им было поручено поставить металлическую ограду вокруг большого, в четыре игровых площадки теннисного корта. Работали дружно, никто не отлынивал. В перерыве все вместе садились обедать, свалив на брезентовую палатку в одну кучу всё, что принесли с собой. Три недели совместной работы в строительной бригаде позволили Лёше познакомиться со своими сокурсниками и почувствовать себя московским студентом.
Устроив сына и купив ему всё необходимое на первое время, Натан Захарович вернулся в Ростов.
3.5
Каждую субботу Лёша, как было условлено с Катей, приходил к семи часам вечера на Центральный телеграф. В первый раз перед предстоящим свиданием он купил в переходе метро скромный букетик цветов, но Катя не пришла. Собираясь домой, Лёша отдал цветы какой-то незнакомой девушке, которая тоже кого-то ждала. Катя появилась только на четвёртую субботу. Без объяснений по поводу своего отсутствия в течение почти трёх недель, Катя, как ни в чём не бывало, весёлым тоном окликнула Лёшу:
– Привет, Соловей! Давно стоишь?
– Да нет, только четвёртый день… Мы же договорились встретиться с тобой в первую субботу после приезда, или ты забыла?
Ну, ты даёшь, Соловей. Не догоняешь, что почём или притворяешься? – перебила его Катя. – Я же не такая, как ты: принёс свой аттестат – и пожалуйте в студенты. У меня всё значительно сложнее. Одних шпаргалок сколько нужно написать.
– Так давай я тебе помогу.
– Что? Шпаргалки писать?
– Нет, я в этом деле не помощник.
– Ну, вот видишь. Никакого проку от тебя нет. Слушай, а пошли, тут рядом, на улице Горького, есть меховой магазин.
– Пошли, а зачем?
– Посмотрим одну шубку.
– Какую шубку? – уставился Лёша на Катю. – Во-первых, сейчас лето. А во-вторых, зачем что-то смотреть без возможности купить. Давай лучше поедем в парк Горького. Погуляем, покатаемся на колесе обозрения, мороженого покушаем.
– Ну, ты детский сад, Соловей. Ничего в женщинах не понимаешь. Я думала, хоть в кафе пригласишь, а ты – колесо обозрения, мороженое…
– У меня нет денег на кафе, Катя. Папа оставил мне немного на жизнь, пока стипендию не дадут.
– Ну, вот когда появятся деньги, тогда и назначай девушкам свидание. А сейчас будь здоров.
3.6
Катя ушла, а Лёша продолжал стоять на ступеньках Центрального телеграфа. Мигающий свет электронного табло падал на его расстроенное лицо, периодически освещая то лоб, то нос. Он не понимал, что произошло с Катей за те несколько недель, что они не виделись. Ведь в Ростове она была нормальной девушкой и у них были тёплые, дружеские отношения. Лёша не скрывал, что Катя ему нравится, и она, кажется, отвечала ему взаимностью. Неужели притворялась, а он этого не замечал? Что же могло так резко измениться в её жизни за это время?
Лёша почувствовал, что у него горят щёки. Почему всё было так хорошо и вдруг стало так плохо? Ведь они знают друг друга уже много лет? Лёша смотрел на большие московские часы, ожидая от них ответа на свои вопросы.
– Что тут непонятного? – моргнули часы. – Всё понятно. Катя обиделась на тебя за то, что ты не пригласил её в кафе, а предложил прогуляться по парку. Она расценила это как оскорбление.
«Наверное, её уже кто-то приглашал в ресторан до меня, и она сравнивает теперь этого человека со мной. Но у меня и в самом деле нет денег».
– Тогда на что ты претендуешь? – вновь моргнули часы. – Всё правильно.
«Ладно, оставим ресторан в покое. А её выходка с шубой – это вообще ни в какие ворота не лезет. Какая-то насмешка или грубая провокация?»
– Ну, с шубой она перехватила. Хотела тебя просто поставить на место.
«Ничего себе перехватила. Да она просто вытерла об меня ноги. И что же мне делать в этой ситуации? Как её вернуть?»
– Никак. Она должна сама вернуться. Одумается и завтра придёт сюда в это же время.
«Значит и я должен завтра тоже придти?»
– Конечно, должен. Она тебя сегодня проверяла. Поэтому если ты завтра не придёшь, то это конец ваших отношений.
«А может быть, завтра, в самом деле, пригласить Катю в кафе? Показать ей, что я уже не мальчишка, а взрослый человек, отвечающий за свои поступки? Деньги можно взять из тех, что оставил мне папа на пару месяцев».
– А если тебе не хватит на жизнь?
«Ничего страшного, если даже немного поголодаю. В конце концов, в институтской столовой на столах бесплатно стоят хлеб и горчица. Чем не обед для студента».
– Ну, смотри. Тебе решать, – подбадривающе моргнули часы в последний раз.
Каждый вечер в течение следующей недели Лёша приходил на Центральный телеграф и по два часа стоял в надежде, что Катя придёт на встречу с ним. Улыбнётся, ласково посмотрит на него, и всё встанет на свои места. Но чуда не произошло. Кати не было. А однажды Лёше приснилось, что ему вручают диплом об окончании института. Играет музыка, все его поздравляют, дарят цветы. В первом ряду сидит Катя, смотрит на него злыми глазами и спрашивает: «Ну что, дурачок, научила я тебя с девушками обращаться?».
Утром Лёша проснулся и сам себе строго сказал: всё, больше никаких пустых свиданий. Хватит изводить себя и заниматься глупостями. Я приехал в Москву учиться, а не потакать прихотям девчонки, в которую был влюблён. Может быть, когда у Кати начнутся занятия, съезжу к ней в институт, чтобы пообщаться и пожелать успехов. А уж как она на это отреагирует, её личное дело.
3.7
В институте Лёше нравилось всё: товарищи по группе, студенческая столовая, большие светлые аудитории, лекции по различным дисциплинам. Особенно его захватил новый предмет — начертательная геометрия. Ее вёл худой, с нездоровым цветом лица старший преподаватель Осинцев, который всё время быстро чертил на доске, не поворачиваясь к аудитории и не интересуясь, успевают ли студенты записывать за ним. Предмет был достаточно сложный для первокурсников и не всем понятный. Студенты нервничали, переспрашивали друг у друга, стараясь не отстать от преподавателя. Но Осинцев темпа изложения материала не снижал. Пожалуй, единственным, кто сохранял полное спокойствие, был Лёша. Он ничего не записывал за преподавателем, а старался сразу весь материал понять и запомнить.
После окончания очередного занятия по начертательной геометрии вокруг Лёши собиралась кучка студентов, которым он объяснял суть того, что было на лекции. Все ругали Осинцева и его методику преподавания, но это, как оказалось, был ещё не предел студенческих мучений. Гнусное нутро этого преподавателя в полной мере проявилось, когда студенты перед сессией стали сдавать ему для получения зачёта эпюры. Осинцев ставил на их чертежах жирные вопросы красным карандашом. Стереть эти вопросы или срезать лезвием не представлялось возможным. В цейтноте времени, перед сессией, студентам приходилось перечерчивать эпюры заново.
Огромное удовольствие Лёша получал от лекций по высшей математике. Для потока из двух групп их блестяще читала доцент Гризодубова (говорили, что это какая-то родственница знаменитой лётчицы). Вообще, Лёша мог на лекции по математике не ходить, потому что всё это уже изучал в Ростовском университете. Но то, как преподносила материал Гризодубова, приводило его в полный восторг.
Так как на лекциях Лёша ничего не писал, а только слушал, то садился он, как правило, за последний стол в среднем ряду (чтобы не вызывать лишних вопросов у преподавателя). И всё было бы хорошо, пока спустя чуть больше двух недель после начала занятий, он не оказался в эпицентре неприятного инцидента с серьёзными последствиями. В тот день, когда все студенты уже заняли свои места, в аудиторию зашёл худой высокий человек. Он держал в руках соломенную шляпу, которую – по ходу своего движения к кафедре, за которой стояла доцент Гризодубова, – положил на стол Лёши. Лёше шляпа явно мешала, и он передал её соседу, а тот, в свою очередь, положил её на подоконник. Переговорив с преподавателем, мужчина направился к выходу из аудитории и снова подошёл к столу, за которым сидел Лёша.
– Простите, я здесь оставлял свою шляпу.
– Не видел я никакой шляпы, – ответил Лёша.
– Ну как же так? – удивился мужчина, но, не став с ним спорить, вышел.
А через двадцать минут в аудиторию вошла секретарь факультета, на котором учился Лёша.
– Извините, Валентина Михайловна, – обратилась она к Гризодубовой, – позвольте мне забрать шляпу профессора Скороходова и пригласить к декану одного из студентов вашего потока. – После чего, взяв с подоконника соломенную шляпу, секретарь подошла к Лёше:
– А вас, молодой человек, я попрошу следовать за мной.
3.8
Они подошли к двери с табличкой «Декан факультета энергомашиностроения профессор Морозов Владимир Николаевич».
– Заходите, – сказала секретарь строгим голосом. – Вас там очень ждут.
Лёша толкнул тяжёлую дверь и оказался в большой комнате. В глубине её стоял массивный письменный стол, за которым сидел седой мужчина. Это и был, по всей видимости, профессор Морозов. К столу примыкал длинный узкий стол с несколькими стульями. На одном из стульев сидел мужчина, с которым Лёша недавно «схлестнулся» по поводу шляпы, и сосредоточенно листал какую-то папку.
– Здравствуйте, вы меня вызывали? Я студент первого курса Алексей Соловьёв.
– Заходите, – без ответного приветствия угрюмо кивнул седой мужчина. – Вы с какой целью поступили в наш институт?
– Учиться, естественно, – ответил Лёша.
– Ну, так учитесь, а не хулиганьте. Вы зачем устроили балаган в учебной аудитории со шляпой декана механического факультета? Отвечайте, — строгим тоном спросил он.
– Я не знал, что это декан факультета.
– А если не декан, значит, можно делать всё, что заблагорассудится?
– Не знаю. Но думаю, что стол, за которым сидит на лекции студент, это не вешалка, – парировал Лёша.
– Да, но вы ещё позволили себе поиздеваться над профессором Скороходовым, заявив, что не видели его шляпу!
– Я просто машинально передал ее соседу, чтобы он положил ее на подоконник, и забыл об этом.
– Я вижу, что вы не совсем понимаете, молодой человек, куда вы пришли, – подытожил Морозов. – Впрочем, мы с профессором Скороходовым подумаем, как вас образумить. Вы свободны.
Выйдя из кабинета, Лёша понял, что возмездие за попранную корпоративную деканскую честь неотвратимо. Но он и представить себе не мог, каким оно будет. А два декана, серьёзные занятые люди, сидели и размышляли, как наказать молодого человека, студента с двухнедельным стажем пребывания в вузе, за неуважение к их высокой административной должности.
– Понимаете, Владимир Николаевич, – рассуждал профессор Скороходов, – можно объявить студенту Соловьёву выговор. Даже строгий. Но в студенческой среде это не воспринимается как серьёзное наказание. Любой выговор автоматически снимается через год. Исключить его из института за данный проступок мы не можем. Остаются два достаточно жёстких варианта, позволяющих чему-то научить Соловьёва: первый – выгнать из общежития, второй – снять со стипендии.
Профессор Морозов слушал своего коллегу очень внимательно.
– Видите ли, Владимир Владимирович, лишить общежития иногороднего студента, да еще из многодетной семьи, нельзя.
– Ну, тогда остаётся вариант снятия со стипендии, – оживился Скороходов. – Только нам с вами, Владимир Николаевич, нужно решить – на какой срок: на месяц или до конца семестра?
– С учётом того, что он не извинился перед вами, Владимир Владимирович, думаю, что следует лишить его стипендии до конца семестра.
– Договорились. Служебную записку к основанию для приказа я вам передам через своего заместителя. Всего хорошего.
3.9
Пожав друг другу руки, деканы разошлись, удовлетворенные успешно проведенной операцией отмщения. А студент первого курса Алексей Соловьёв, согласно приказу по институту, был снят со стипендии до конца семестра (хотя за сентябрь он всё-таки успел её получить). Копия приказа была вручена Лёше под роспись секретарём факультета.
И опять всё было связано с деканатом. Что же это за инстанция такая мерзкая? Лёша ещё не забыл разговоры дома за столом по поводу распределения Оли, а теперь вот и сам влип в историю. Ему было очень грустно и обидно, что его студенческая жизнь началась с такой неприятности. Обращаться к родителям за помощью он принципиально не хотел. Деньги, которые оставил ему на первое время отец, подходили к концу. Нужно было как-то выживать. Вспомнилась поговорка, которую часто повторял его школьный учитель физики: «Если в ситуацию есть вход, то из неё должен быть и выход».
Чтобы хоть немного поднять себе настроение, Лёша решил пойти поиграть в баскетбол. Благодаря первому разряду, его сразу после зачисления в студенты взяли в первую сборную института. Тренировки обычно начинались в шесть часов вечера и продолжались два часа. Так как на улице было ещё тепло, то проходили они на открытой баскетбольной площадке институтского спортивного городка при электрическом освещении.
Тренировки с первой сборной института проводил, как правило, сам старший тренер Ашот Степанович Варданян. Спокойный, думающий человек с большим жизненным опытом, он всегда заботливо относился к своим ребятам. Но сегодня он всё больше поглядывал на Лёшу Соловьёва, так как ещё утром из ректората на кафедру физического воспитания принесли копию приказа о снятии его со стипендии.
После тренировки Ашот Степанович попросил Соловьёва задержаться.
– Лёша, что произошло? Что ты такое сделал, что тебя сразу на весь семестр лишили стипендии? – участливо спросил тренер.
– Даже не знаю, что здесь рассказывать. Просто какое-то недоразумение, – ответил Лёша.
– А ты не стесняйся – расскажи. Может, я тебе чем-нибудь смогу помочь?
И Лёша рассказал. И про шляпу, и про то, как под перекрёстным огнём двух деканов не раскаялся. А главное, что не извинился перед профессором Скороходовым. Ашот Степанович внимательно его слушал.
– Что я могу тебе сказать, Лёша. Сняли тебя со стипендии не за шляпу, а за характер. Не надо с деканом конфликтовать и выяснять отношения. От него всё в твоей жизни на много лет вперёд зависит.
– Так уж и зависит!
– А вот узнаешь потом. Скороходова, правда, я и сам не долюбливаю. Однажды обратился к нему по поводу поездки на сборы двух легкоатлетов, так он не только отказал мне в просьбе, но ещё мораль прочитал. И всё-таки давай лучше подумаем, как тебе помочь компенсировать потерю стипендии. Надо же на что-то жить.
– Как вы можете мне помочь, Ашот Степанович?
– А знаешь что? Давай я возьму тебя на должность помощника тренера с почасовой оплатой. Будешь тренировать второй состав сборной в свободное от учёбы время. Согласен?
– Согласен. Но я собирался в этом году поступить еще на вечернее отделение механико-математического факультета Московского университета.
– Не страшно. Поступишь на следующий год. Это возможно?
– Конечно, возможно.
– Ну, вот и хорошо.
3.10
Из-за всех этих приятных и неприятных событий первых недель учебы в институте Лёша никак не мог найти время, чтобы съездить в Институт народного хозяйства имени Плеханова и повидаться с Катей. Наконец он решил сделать это в субботу утром, когда в расписании стояли практические занятия по математике. Вёл их тот молодой преподаватель, который проводил с Лёшей собеседование при поступлении в институт. Увидев студента Соловьёва в своей группе, он сразу же предложил ему сдать экстерном коллоквиум за семестр и не посещать занятия до зимней сессии.
Желание встретиться с Катей, единственным человеком в Москве, который связывал Лёшу с прежней жизнью в родном городе, было сильнее обиды на неё за их последнюю встречу. Но ехал он на её поиски, не зная, по какой специальности она поступила в институт, на каком факультете учится, в каком общежитии живёт. Институт народного хозяйства занимал огромную территорию и включал в себя несколько зданий. Единственное, что Лёша знал твердо, так это то, что приёмная комиссия любого института всегда расположена в главном корпусе на первом этаже. Туда он и направился.
Ему повезло – приёмная комиссия работала, продолжая набор студентов на вечернюю и заочную формы обучения. Лёша толкнул дверь и оказался в большой комнате с пятью столами в разных концах. Кроме него, посетителей в комнате не было. Только за одним из столов сидела немолодая женщина.
– Вас что интересует, молодой человек? – приветливо спросила она.
– Я хочу получить информацию о своей однокласснице Кате Иванцовой. Она поступала на дневной факультет вашего института в этом году.
– А на какую специальность она подавала заявление?
– К сожалению, не знаю.
– Тогда вам придётся обратиться в деканаты факультетов, так как в приёмной комиссии этих сведений нет.
Когда Лёша услышал слово «деканат», у него сразу испортилось настроение.
– Извините меня, пожалуйста, а, может быть, всё-таки, можно посмотреть книгу приёма документов? Дело в том, что мы учились с Катей в одном классе, и больше у меня, кроме неё, в Москве знакомых нет.
– Нет, нельзя. А вы сами что делаете в Москве?
– Учусь в МВТУ имени Баумана. На первом курсе.
– Покажите свой студенческий билет.
– Пожалуйста.
Женщина взяла студенческий билет Лёши и стала внимательно его рассматривать.
– Вы тоже поступили в институт в этом году?
– Ну да. Мы вместе окончили школу в Ростове-на-Дону и приехали в Москву. Понимаете, мне эта девочка очень нравится. Помогите, пожалуйста, её найти.
То ли вежливое обращение этого интеллигентного мальчика, то ли суть его просьбы, связанной с отношением к девочке, сыграли свою роль, но сотрудница приёмной комиссии сменила, что называется, гнев на милость. Она не только разыскала по журналу, на какую специальность поступала Екатерина Васильевна Иванцова в институт народного хозяйства, но и выяснила, что эта абитуриентка в конце августа забрала свои документы как не прошедшая по конкурсу.
3.11
Зимой, после первой сессии, которую он сдал на все пятёрки, Лёша решил поехать на каникулы к родителям в Ростов. Семья Соловьёвых встречала его на перроне железнодорожного вокзала в том же составе, что и провожала. Впереди всех прыгал на палке рыжий племянник Денис, которому к этому времени уже исполнилось четыре года. Его придерживал за кашне такой же рыжий, как и сын, муж Оли Донат. За ними в распахнутом пальто широким шагом шёл Натан Захарович, увлекая за собой Елену Степановну. В хвосте колонны медленно плелись сёстры Оля и Наташа.
– Здоров, самородок, – первым заключил Лёшу в свои объятия Донат. – Наслышан о твоих успехах. Молодец.
За Донатом выстроилась вся родня. Когда очередь дошла до мамы, она прижалась к сыну и долго не хотела его отпускать. Потом, чуть отстранив от себя, непонятно кому в укоризну сказала:
– Плохо выглядишь. Займусь тобой.
Наобнимавшись и нацеловавшись, семья дружной толпой направилась к остановке троллейбуса. Папа весь сиял и всё пытался забрать у Лёши чемодан, а рыжий племянник тянул к нему свою пухлую ладошку, желая поздороваться с Лёшей за руку как взрослый. В родительском доме всех ждал праздничный обед в честь московского гостя. Старая трёхкомнатная квартира, в которой Лёша вырос, показалась ему какой-то маленькой и тесной. По нагромождению книг было видно, что здесь живут весьма занятые люди, которым совершенно безразлично, как выглядит их дом. Но главный сюрприз для Лёши был впереди. Это была его любимая Грелка. Из-за своих коротких ножек собака не могла запрыгнуть даже на стул, а тут, увидев Лёшу, вдруг оторвалась от пола и оказалась в его объятиях. Семимесячная разлука с хозяином была для неё настолько тяжёлой, что собаку просто колотило. Она визжала, хрипела, царапалась от счастья, и казалось, что её сердечко вот-вот выскочит из груди.
– Мама, что мне с Грелкой делать? – взмолился Лёша.
– Прижми её крепко к себе и не отпускай. У неё от радости, как у человека, может инфаркт случится. Но она скоро успокоится. И дай ей, наконец, тебя лизнуть.
Все быстро расселись за большим столом в гостиной. По поводу приезда Лёши на столе появились даже бутылка вина и бутылка водки. Все с удовольствием подняли несколько тостов за родителей и за детей. В разговорах, анекдотах, шутках не заметили, как просидели до самого вечера. На последнем тосте за будущие успехи младшего сына Елена Степановна вдруг расплакалась.
– Мама, ты чего плачешь? – участливо спросил Лёша. – У меня же всё в порядке. Я живой и невредимый.
– Нет, не из-за тебя, сыночек. Ты рядом, а вот Даша неизвестно куда закатилась со своим мужем.
– Лена, перестань, я тебе говорю, – попытался одёрнуть её папа. – Зачем ты снова заводишь этот разговор? Сама расстраиваешься и другим портишь настроение.
Но Елена Степановна не слушала мужа и продолжила говорить своё:
– Мужчине что? Он как бегемот толстокожий. Ничего не знает и не чувствует. А матери отпустить ребёнка от себя, да ещё девочку, — это же какое здоровье надо иметь, чтобы пережить? Я бы послала к ней папу на помощь, так за ним самим уже пригляд нужен. А ехать вдвоём – долго и дорого. Да и работаю я ещё. В общем, не знаю, что делать.
– А ничего не делать, – заметил Лёша. – Вот я пожил немного один, без мамы и папы, покрутился в своих проблемах и сразу встал взрослым. А так бы всё ходил в «ребёнках». Переход от детства к взрослой жизни каждый человек должен делать вовремя. И не нужно эту ситуацию драматизировать и отдалять. Даша правильно сделала, что уехала и живёт самостоятельно. Разберётся, тем более что она замужем.
– Ну, ты даёшь, Алексей Натанович, – восхищённо воскликнул Донат. – Вот что значит пожить в столице. Стал такой грамотный и рассудительный, аж завидно. Желаю тебе здоровья и успехов!
Разошлись не скоро. Когда все легли спать, Лёша и Натан Захарович ещё долго сидели на кухне. Папе было очень интересно знать всё, что касалось жизни в Москве его младшего сына.
Как ни соскучился Лёша по своей семье – по маме, папе, сёстрам, но, приехав на каникулы в Ростов, он больше всего хотел встретиться с Катей. Но Катя передала через свою подругу, что видеть его не хочет.
Иллюстрация: Восточно-Сибирская тайга zen.yandex.ru