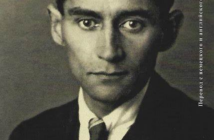Феномен лицея
Характер молодого человека, подростка во многом формирует его окружение — друзья, школа. Мне повезло учиться в специальной физико-математической школе №2. Сегодня московская Вторая школа носит гордое название «лицей». Но 35 лет назад, когда на уроках литературы Герман Наумович Фейн обсуждал с нами феномен пушкинского лицея, только своим самым ближайшим друзьям я могла сказать: «Наша школа — как лицей». Лицей – учебное заведение, предназначенное для избранных, для элиты, и воспитывающий в своих учениках необходимые качества, чтобы соответствовать своему высокому положению и вытекающим из него обязанностям.
Мы, ровесники и ученики Второй школы, жили в другом веке, в другой стране (СССР), в другой реальности, когда такие слова как «лицей», «еврей», «элита» были равно непроизносимы вслух. Социалистическая уравниловка требовала, чтобы всё и все были одинаковыми, чтобы все ходили строем, ценили одно и то же и самоопределялись не как мальчики или девочки, русские или евреи, ученые или бизнесмены, а исключительно как «единый советский народ». Кстати, то, что евреи – народ, а не генетически наследуемый недостаток, я обнаружила только в этой Второй школе, где евреи, составлявшие более половины моего класса и большую часть учителей, могли вести себя свободно и не стесняться своего происхождения.
Как же в эти жестко эгалитарные времена смог возникнуть феномен Второй школы — элитарного лицея? Не было бы счастья, да несчастье помогло – «холодная война» породила гонку вооружений и конкуренцию с Америкой. Потребовались сверхсовременные технологии, открытия в физике и математике. Так появилась маленькая социальная ниша для физиков. Власти как бы сказали им: «Вы нам — достижения, атомную бомбу, мы вам – каплю воздуха свободы, вы нам ракеты и спутники, а мы вам разрешим за это спецшколы и студенческие вольности».
В других областях – спорте, идеологии или эрзац-культуре, где главный критерий – удовлетворенность заказчика, обходились исключительно материальными поощрениями – премия, квартира, машина, почетные звания и награды. Но в науке нужны были настоящие, объективные результаты, необходимо было не выполнение соцзаказа, а критическое мышление и творчество. Требовались открытия, нестандартный взгляд на вещи, требовались люди, умеющие думать, в то время как вся система подавляла именно эту возможность – думать и иметь свое, отличное от других, мнение. И поэтому без минимальной свободы здесь невозможно было обойтись. И вот физикам-ядерщикам и их коллегам прибавили к общесоциалистическому пайку «глоток свободы». Стоит ли удивляться, что евреи, традиционно высоко ценящие образование, посылали в эту школу своих отпрысков со всех концов Москвы и даже из пригородов?
В чем-то наша школа была похожа на солжениценскую «шарашку» из «Круга первого». Она была чуть более свободным островком внутри всего несвободного «соцлагеря». Директор Школы (она, как единственная в своем роде, заслуживает написания с большой буквы) Владимир Федорович Овчинников использовал эти послабления властей для того, чтобы пригласить в школу самых замечательных учителей не только талантливых в своей основной профессии – математике, физике, истории, литературе, но и ярких личностей. И хотя вся советская система была нацелена на воспитание послушно-коллективистского человека, здесь, в стенах Школы, речь шла о принципиально другом процессе. Не только отсутствие какого бы то ни было подавления, но и отказ от заранее заданного эталона, под который требовалось во что бы то ни стало подогнать формирующегося человека, превращали воспитание в диалог двух уважаемых и самоценных личностей – учителя и ученика. И хотя вся Школа было пронизана оппозиционными настроениями к окружавшей ее советской действительности, и хотя самиздат не только прятали в парте ученики, но и открыто обсуждали на уроке учителя – все это было не главное. Легко, хотя и достаточно опасно, создать негатив официоза, перекрасив все белое в черное и переиначив все «да» в «нет» и наоборот.
Но, живя внутри серой травмирующей действительности, гораздо труднее сохранить многогранность и передать воспитанникам, что мир многоцветный, даже если мы и не можем различить глазом весь имеющийся спектр. Легче научить критиковать, гораздо труднее научить думать. Еще труднее доказать примером, что мысли и ценности – это не оторванная от действительности «игра в бисер», а руководство к действию — здесь и сейчас. У наших учителей все это было, и с тех пор этот утопический роман Германа Гессе о воспитании получил в моих глазах реальный прототип.
Первое время в школе я вела себя отстраненно. Мне легко и приятно было решать трудные математические задачи, меня не удивляли и оппозиционные настроения на уроках по гуманитарным предметам. Такие настроения были приняты и у нас дома, здесь же удивляла только их открытость. То, что было для меня действительно ново и странно в Школе – это так называемая «общественная деятельность» – стенгазета, драмкружок, просмотры кино, походы и т.п.
Прежде я сталкивалась с тем, что все это спускается сверху, что это очередная скучная формальная обязанность, от которой лучше всего увильнуть, выбрать, что полегче и отделаться побыстрее. Здесь, в Школе, ученики это делали охотно и для себя. И учителя не заставляли и не предписывали, но помогали, советовали, участвовали. Прошло время, прежде чем я попробовала присоединиться к этой свободной игре, перестала стесняться своей искренности и бояться наказания за свободомыслие.
Конечно, не все связанное со Школой было только замечательно. Были длительные поездки через всю Москву в переполненных автобусах. Была тяжелая работа, чтобы соответствовать высоким научным требованиям. Были и исключения среди учителей — грубые, недостойные люди, ненавидящие учеников и сотрудничающие с режимом против Школы. (Имя одной из них в сочетании с непечатным словом еще недавно красовалось на многих исписанных стенах по всему миру). На наш выпуск пришелся и «погром» Школы, когда Владимира Федоровича Овчинникова и многих достойных учителей вынудили уйти и обстановка в Школе резко изменилась, став больше похожей на обычную для других спецшкол. Именно тогда мы сами изобрели заново такое распространенное средство протеста как граффити, и белый фасад школы украсили красные буквы. Хулиганство обиженных детей или гражданское сопротивление юных искателей правды? Пусть над этим размышляют историки.
Травма «разгона», уничтожения оазиса свободы далась мне очень тяжело, но и закалила для многочисленных последующих жизненных тягот. Оазис восстановился, но уже не при мне. А школьное братство продолжилось и в студенческие годы. И до сих пор, встречая бывших соучеников в Москве, Иерусалиме, Нью-Йорке или Лондоне мы осознаем, как нам повезло в начале жизни, гордимся своим избранничеством и по мере сил помогаем источнику не иссякнуть, чтобы этот оазис опять не занесло песком. Мы из одной школы – ты и я.
2005 г.