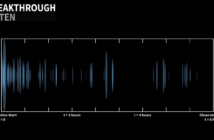Встреча с этим человеком потрясла меня…
Профессор педагогики из Хайфского Техниона, человек науки, обаятельный, а главное – любящий свое дело и детей. Знаете, чем он занимается: он учит учителей, чтобы они передавали ученикам не только знания по своему предмету, но и культуру. Но давайте все по порядку. Наша беседа проходит в его небольшом, но уютном кабинете в Технионе.
А.Т. Скажите, пожалуйста, Игорь, занимались ли вы в той жизни тем, чем занимаетесь сейчас?
И.В. Да. Я всю жизнь работаю в высшей школе. После окончания математико-механического факультета Уральского Государственного Университета (УрГУ) пришёл на работу в лабораторию автоматизированного проектирования в машиностроении Уральского Политехнического Института. В этой лаборатории работали инженеры-механики, металлурги. Я начал работать в коллективе и быстро понял, что на этом рабочем месте требуются умения, которых мы в университете не приобрели. Инженеры лаборатории работали на проектах, финансируемых предприятиями, требующими создания надёжных и эффективных систем. Им нужна была помощь математика, способного понять их проблемы и готового, если нужно, заниматься и черновой работой, чтобы помочь им в реализации договоров. Я разработал для них сервисную подсистему геометрического проектирования и на базе этого защитил кандидатскую диссертацию по автоматизированному проектированию в машиностроении.
Параллельно я руководил учебной практикой студентов университета и политехнического института. Приходили ребята, не умеющие применить полученные теоретические знания при решении реальных задач. Именно тогда у меня возник вопрос: как соединить теоретическое образование с реальной практикой? Это оказалось проблемой, с которой я разбираюсь уже много лет и в Израиле.
После защиты диссертации я несколько лет работал в УрГУ в лаборатории, которая занималась оценкой запасов нефти в месторождениях Западной Сибири, а затем был принят на должность доцента в Свердловский Горный институт. За 6 лет работы в СГИ я многому научился. Был преподавателем высшей математики и исследователем в лаборатории автоматизированного проектирования.
В Горном институте, в отличие от других вузов Сверловска, учились студенты изо всех уголков бывшего СССР. И это были отнюдь не самые сильные студенты с точки зрения математики и других научных дисциплин. Непросто было привить им интерес к изучению математики и её применению. Я действовал так: шел на выпускающие кафедры и помогал их сотрудникам в решении прикладных математических задач. К решению задач я привлекал студентов с этих кафедр, которым преподавал математику. Таким образом, студенты видели, что тот предмет, который я преподаю, связан с их будущей специальностью, и это для них было важно. Эту идею я тоже взял с собой в Израиль.
А.Т. Игорь, у вас все было: хорошая работа, звание, должность, квартира, достаток. Вы были членом экспертного совета ВАК, кандидатом на заведование кафедрой. Почему же вдруг в 90-м году вы решили репатриироваться в Израиль?
И.В. Не вдруг. В нашей семье всегда была сильна еврейская традиция. У меня дедушка в Харькове совершал, как я считаю, тихий подвиг. В этом городе закрыли все синагоги, но был маленький дом, где молились евреи, единственный в Харькове. Многие годы до самой смерти дед был одним из тех, кто держал миньян. Он работал на заводе в три смены и после вечерней смены, рано утром ехал на молитву в другой конец города. Моя мама старалась отмечать еврейские праздники. Она хотела, чтобы на пасху дома была маца, но ее в Свердловске не выпекали. Маленьким я помню, что мама пекла её сама в духовке, а потом каким-то образом нашла в Сибири место, где делали мацу, и каждый год наложенным платежом заказывала ее к Пейсаху.
Свердловск был закрытым городом для иностранцев. Не было учебников для изучения иврита, отсутствовала информация о жизни в Израиле. И только когда началась перестройка, ситуация начала меняться. Мы начали подготовку к репатриациив 1989 году, когда в Израиль уехал брат жены Григорий (Цви) Виннер. Уезжая, он подсказал, что в Москве в Голландском посольстве можно получить самоучитель иврита и литературу об Израиле, дал контактный телефон человека, который был членом Игуд-аморим, т.е. Союза учителей преподавателей иврита в СССР, познакомил меня со своим товарищем Толиком Энтелисом, с которым они вместе учили иврит.
Я съездил в Москву, привез эти материалы, и мы с женой стали самостоятельно учить иврит, а Толик приходил к нам после работы и помогал. После того как мы прошли самоучитель, я узнал, что в Москве организуется курс для подготовки помощников учителей иврита, куда я и поехал под предлогом повышения квалификации. Это был интенсивный десятидневный курс. Я познакомился там с молодыми ребятами, которые пожертвовали своими карьерами, чтобы помочь людям учить иврит, чтобы язык возвращался к евреям. Это были очень чистые, преданные своему делу люди, с которыми было приятно иметь дело. Сюрпризом был приезд профессора Тель- Авивского университета Эдны Лауден, автора учебника по ивриту, которая прилетела в Москву специально, чтобы принять у нас экзамен. Мы сдали экзамены, и я получил удостоверение помошника учителя иврита. Впоследствие, я помог нескольким семьям с изучением иврита и литературой.
А.Т. Понимаю, еврейское самосознание. Но все-таки – что дало толчок к отъезду?
И.В. Понимаете, наверно, это трудно объяснить, но я ощущал, что я еврей и должен жить в своей стране, в стране моего народа. Мы хорошо относимся к России и благодарны за всё хорошее, что у нас связано с Россией. Но хотелось поработать для Израиля, чтобы наши дети выросли в Израиле. Так что толчка не было — появилась возможность, и мы уехали.
А.Т. И вы приехали, приземлился самолет и… Вопрос традиционный, но неизбежный, как проходила ваша абсорбция?
И.В. Мы прилетели в Израиль 7 октября 1990 года в Суккот. С нами были маленькие дети и мои родители. В Свердловске и Москве было холодно, и мы были в зимней одежде, а в Израиле стояла жара. Перед отлётом в Москве сдали чемоданы в аэропорту, а с собой в самолет взяли … бутылку водки, как сувенир. Прилетели, а багаж не пришел… И мы остались с этой бутылкой водки, то есть ни с чем. Поехали жить в Афулу, потому что жена – врач, а там были курсы подготовки врачей к экзамену, подтверждающему диплом. В Афуле нас встретили Миша и Ита Штивельман, сторожилы и прекрасные люди, очень помогавшие новым репатриантам. Они нам помогли снять квартиру, а несколько семей подарили вещи первой необходимости. Это было очень трогательно.
Через три дня я уже начал подрабатывать — дал первый частный урок математики на иврите. Помог школьнику сделать домашнее задание, заработал 10 шекелей и еще даже покормили. Дети пошли в школу, а жена – на курсы. Через месяц я поехал в Нацрат-Илит, чтобы в отделе министерства абсорбции решить вопрос с багажом. Зашел в колледж, который находился рядом с отделом, а там висело объявление о наборе на курс переподготовки для учителей-репатриантов. Я решил записаться. Они сначала сомневались, так как брали людей после ульпана Бэт, а я был меньше месяца в стране, но решили все-таки зачислить. Так с ноября 1990 года я начал заниматься на курсах учителей математики. Считаю, что мне очень повезло. В ульпанах учили иврит, как язык общения, а на курсах мы помимо ознакомления с учебной программой по математике занимались ещё и литературой, обществоведением и историей. Именно на курсах я понял, насколько необходимо учителю знание языка и культурной среды, насколько важно понимать тех, кого учишь.
А.Т. Почему же вы не пошли работать в израильскую школу? И что произошло дальше в вашей судьбе?
И.В. Так сложились обстоятельства. В один из свободных дней от занятий на курсах я поехал в Технион. Мне было интересно познакомиться с этим знаменитым университетом, который был основан за 36 лет до создания государства Израиль. Даже в учебнике, по которому мы учили иврит, было написано о нем. И захотелось попробовать установить контакт. Это было в начале января 1991 года. Зашел на факультет математики, и там мне посчастливилось познакомиться с профессором Даниэлем Гершковичем. Даниэль заинтересовался моим опытом преподавания и пригласил посетить его лекции. Я был поражён уровнем курса, мастерством преподавания и высокой мотивацией студентов. Поразило меня также, что, будучи профессором Техниона, Даниэль был также дипломированным раввином. При этом он оставался простым и отзывчивым человеком. Даниэль сказал, что хочет чтобы я начал преподавать математику студентам Техниона. Он попросил в деканате, чтобы мне дали курс. Там, узнав, что я только приехал, отказали. Тогда он принял решение… отдать мне свой курс. Я думаю, что это возможно только в Израиле, чтобы человек хотел так помочь новым репатриантам.
Чтобы было понятно, курс дифференциальных уравнений в Технионе преподают несколько преподавателей одновременно в соседних аудиториях, а каждый студент выбирает себе того преподавателя, который ему нравится. Если преподаватель плох, то он может остаться без студентов. И вот я начал читать курс, хотя иврит был еще довольно корявым. А профессор Гершкович был лектором особо популярным, на его лекциях сидело 120-130 человек, аудитория всегда была переполнена. Я прочел первую лекцию, на вторую пришло 110 человек, на третью – 90, на четвертую – 70. Я понял, что должен приложить все силы, чтобы не остаться в пустой аудитории. И я остановил тенденцию оттока студентов и закончил курс с этими 70-ью студентами, которые в отзыве о курсе написали, чтобы меня оставили на работе. Я преподавал математику шесть лет и дважды был признан по отзывам студентов среди лучших преподавателей Техниона.
А.Т. А как получилось, что вы стали заниматься педагогикой?
И.В. Чтобы ответить, давайте вернёмся снова к началу 1991 года. По совету Даниэля я встретился с деканом факультета преподавания науки и технологии Азриэлем Эвьятаром. Азриэль, выходец из Бельгии, был человек очень незаурядный — профессор математики, который серьёзно занимался педагогикой. Он рассказал, что факультет занимается подготовкой преподавателей, в основном для старших классов школы и колледжей. Академическая степень, которую факультет присуждает, включает в себя так называемый «теудат ораа» — сертификат педагогического образования, дающий право работать учителем в Израиле.
После нескольких встреч профессор Эвьятар сообщил, что группа технологического образования предложила принять меня на работу. Мне предложили не стипендию, а полную ставку научного сотрудника. Я согласился, но только на пол-ставки, чтобы иметь возможность закончить курс учителей-репатриантов и продолжить преподавание на факультете математики.
А кроме того, ещё один замечательный математик и человек — профессор Ави Берман пригласил помогать ему в организации в Технионе международного летнего лагеря «Сайтек» для одарённых детей. А со следующего учебного года я начал преподавать математику еще и в колледже для младших инженеров. Таким образом я работал досточно напряженно, но мне это было в радость и давало важный педагогический опыт.
Когда я начал работать на факультете преподавания, то оказалось что попал в компанию инженеров, но инженеров–педагогов. Это было ново и очень интересно. Рабочее место было в лаборатории технологии, в которой я впервые увидел учебный робот манипулятор. Что собой представляет этот робот?
Это механическая рука, которую можно запрограммировать, и она делает различные операции. Я был поражен, что в Израиле есть такие учебные роботы, доступные детям в школах. Меня это очень заинтересовало. Я пошел в школу младших инженеров, у них такой робот был, и я увидел, как учатся с ним студенты. Например, программируют робота, чтобы он взял кубик и передвинул. И они делают это с помощью дистанционного пульта. Мне показалось, что можно придумать более интересные развивающие задания. Я этим занялся и оказалось, что с этим роботом можно делать интересные вещи.
Вот возьмем различные детали, склеенные из одинаковых кубиков, и будем собирать из них различные трёхмерные головоломки. А теперь поставим задачу: можно ли запрограммировать робота, чтобы он сам собрал заданную головоломку? Такие задачи мы стали решать вместе со школьниками старших классов в рамках проектов. Оказалось, что задания по решению пространственных головоломок при помощи робота-манипулятора очень сильно продвигают учеников. Например, ученик 11 класса, который сделал такой проект, затем успешно закончил учебу на первую и вторую степени на компьютерном факультете Техниона и работает в хай-теке на ведущих должностях. Проект другого ученика получил первый приз на Всеизраильском конкурсе, проведённом Тель-авивским университетом. Благодаря этому, ему разрешили совместить службу в армии с продолжением учёбы. Приведу еще один пример, в летнем лагере я работал со школьником из Нью-Йорка, у него были проблемы с учебой. На него пребывание в лагере и работа над проектом произвели такое сильное впечатление, что он репатриировался в Израиль, окончил Бар-Иланский университет, получил вторую степень, открыл свою фирму и убедил переехать сюда всю свою семью.
Но был пример и другого рода. У школьницы, тоже из летнего лагеря, при выполнении проекта возникли проблемы — она затруднялась мысленно представить положение деталей и робота в пространстве, в то время как у других ребят это получалось. Она была хорошая ученица и очень расстроилась. Мне захотелось разобраться: что это за трудности? Можно ли с ними справиться и, если да, то как? Так я пришёл к необходимости педагогического исследования.
А.Т. Вы хотите сказать, что это стало вашей основной работой и научной деятельностью?
И.В. Да. Я стал заниматься разработкой и исследованием учебных процессов в роботехнических средах, работал на проектах, будучи научным сотрудников, получал стипендию Шапиро, Гилади. Очень благодарен коллективу технологического образования нашего факультета под руководством профессора Шломо Вакса, который был одним из столпов технологического образования в Израиле и много дал мне в процессе совместной работы.
В 1996 году у меня возникла такая ситуация. Я был преподавателем в Кармиэле в очень крупном инженерном колледже Орт Брауде, уже получил квиют (постоянство). А на факультете преподавания закончился проект. Честно говоря, я уже думал, что придется уйти с факультета, но оказалось, что я прошёл по конкурсу на штатную должность лектора. Здесь у меня возникла сложная дилемма: брать эту должность или оставаться в колледже и переходить там на полную ставку. Лектор в Технионе должен в течение 5 лет пройти международный конкурс. Если не смог, то увольняют. Так можно остаться и без работы. Жена мне сказала: «Иди в Кармиэль», а мама посоветовала рискнуть. Я послушал маму — и не ошибся.
Продолжение следует.
Ася Тепловодская, ответственный редактор журнала «РЛЭ», журналист, писатель