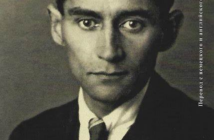etvnet.com
Автор: Борис Дубсон, Ph.D. in Economical, Израиль.
Продолжение.
» Вперед к капитализму!» Начало 90-х годов.
Вспоминается известный анекдот советских времен о рабах древнего Рима, которые несут на демонстрации плакат: «Да здравствует феодализм, светлое будущее всего человечества»! Плакатов «Вперед к капитализму»! на многочисленных и многолюдных демонстрациях в 1991 году, как и предшествующие годы перестройки, не было, преобладающая часть советских граждан попрежнему крайне туманно представляла, куда идет страна. Тем не менее, если бы Рудик появился бы на демонстрации с подобным плакатом, в лучшем случае демонстранты надавали бы ему тумаков и выбросили бы плакат. И все же преобладали тревожные и мрачные настроения.
Авторы книги “Герои 90-х. Люди и деньги» отмечали, что «надежд на лучшее будущее не оставалось почти ни у кого: либералы боялись «наведения порядка», сторонники сильной власти — «анархии и разгула сепаратизма», не говоря уже об «отказе от социалистических ценностей». «Прогрессисты» опасались коммунистического реванша, их оппоненты — жидомасонского заговора и американской оккупации. Эти настроения выливались в стотысячные митинги, и по центру Москвы было невозможно ходить из-за постоянных милицейских оцеплений и шествий.( Башкирова. Герои 90-х. Люди и деньги». Москва 2005 г. стр. )
Можно согласиться с этими журналистами, что скучно не было: с начала года по телеку давали захватывающие сериалы — «Буря в пустыне», штурм телецентра в Вильнюсе под командованием будущего сепаратиста Аслана Масхадова, южноосетинская война, вмешательство советских войск в карабахский конфликт, президентство Звиада Гамсахурдии и его война с «Мхедриони», созданной писателем и вором в законе Джабой Иоселиани, избрание Дудаева президентом Ичкерии, и еще куча всяких деклараций, референдумов, независимостей…
Но народ был намного больше озабочен проблемами собственного выживания. Реальные зарплаты в государственном секторе катастрофически снизились после предпринятых новым премьер-министром Павловым попыток оздоровить финансовую систему страны. В конце января 1991 года Горбачев подписал указ об изъятии из обращения 50- и 100-рублевых купюр и обмене их на более мелкие.
Указ был доведен до сведения широких масс населения поздно вечером, когда сберкассы уже были закрыты. Наиболее предприимчивые, чтобы спасти свои сбережения, успели воспользоваться услугами касс в метро и почтовых отделений при вокзалах, отправив самим себе почтовые переводы. Остальным пришлось давиться в очередях или попросту плюнуть на свои сбережения — на обмен купюр давались всего три дня, причем обменять без проблем можно было не более 1000 руб. «в одни руки». А в сберкассе можно было снять не более 500 руб. Журналисты перестроечных СМИ истошно кричали о том, что у несчастных стариков отнимают последние деньги, которые они накопили на собственные похороны. Но задачу стабилизации денежного обращения в стране путем изъятия у населения избыточной денежной массы эта мера не решила — из обращения было изъято всего около 14 млрд. наличных.
Далее последовала апрельская реформа (повышение) цен: 2 апреля 1991 года произошло одновременное повышение всех розничных цен в 2–4 раза. Это стало началом второго этапа павловской реформы. Забавно, что повышение цен было проведено не первого, а второго апреля, вероятно из опасения, что сообщение о повышении цен могут воспринять как неудачную первоапрельскую щутку.
Увы, время для шуток закончилось и даже острословы приутихли — было не до анекдотов. Все очевиднее вырисовывалась картина ближайшего будущего — возврат к капитализму и крах советской державы. Этого подавляющее большинство советских людей не хотело, что и показал мартовский референдум. Граждане тех республик, которые согласились его провести (прибалтийские республики, Грузия, Армения и Молдавия его проигнорировали), должны были ответить на вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?» Однако даже в тех республиках, где референдум прошел, формулировку меняли или добавляли свои вопросы. Жители Казахстана, голосовали за «Союз суверенных государств». Жители РСФСР — за введение поста президента РСФСР. Так что для них референдум вылился еще и в очередной раунд противостояния Горбачева с Ельциным. После этого Горбачев занялся «новоогаревским процессом» — подготовкой нового союзного договора, предусматривавшего фактическую ликвидацию СССР и это приблизило развязку.
Рудик все больше расходился в оценке ситуации с большей частью своих коллег по институту, симпатизировавших Собчаку и Ельцину. Особенно запомнился Рудику один эпизод, когда он с лестничной площадки увидел в холле на первом этаже группу сотрудников, благоговейно смотрящих на экран телевизора – выступал Ельцин. Спонтанно Рудик выбросил руку в нацистском приветствии и воскликнул – Хайль Ельцин! Толпа молча двинулась к нему. Оценив соотношение сил, Рудик ретировался. Вполне возможно, что его за это по сути хулиганство могли и побить. Ему представлялось, что поведение Ельцина после того, как его сняли с поста первого секретаря московского горкома КПСС и выступления через несколько месяцев на всесоюзной партконференции, где он каялся как нашкодивший мальчишка (чего стоила его просьба о «прижизненной политической реабилитации»), убедительно свидетельствовало о случайности появления этой фигуры на вершине политического Олимпа. Рудик ошибся — история сыграла злую шутку, доверив Ельцину завершение процесса реставрации капитализма в России. В июне 1991 года, ровно через год после принятия Декларации о суверенитете России на первых всенародных выборах российского президента Ельцин был избран на этот пост значительным большинством голосов. Граждане предпочли его, а не горбачевского кандидата — бывшего председателя Совмина СССР, Н. Рыжкова. С этого момента начался короткий период практического двоевластия в стране, который завершился после безуспешной попытки ближайших соратников Горбачева «отыграть все назад, введя чрезвычайное положение в стране 18 августа 1991г.
О так называемом «путче» членов ГКЧП рассказано и написано много. Одни называют его бездарной пародией на государственный переворот. «Путчисты» лишний раз подтвердили «первую заповедь изменника»: заговор удается в первые три часа или не удается вовсе. Другие отмечают, что сам переворот вышел очень похожим на симуляцию: обычно при государственном перевороте сразу перекрывают аэропорты, вокзалы и СМИ, а тут танки не имели снарядов, солдаты не имели боевых патронов, Похоже, что «путчисты» понадеялись на то, что все должны были испугаться самого вида огромного количества бронетехники, введенной в Москву и послушно ждать решений ГКЧП. Как отмечает бывший первый секретать московского горкома Ю.Прокофьев, «настроения жителей Москвы разделились. Много войск — значит, всё может произойти. Не хотелось повторения Баку, Вильнюса и Тбилиси».
Не «купились» граждане и на брошенную им «кость» в первом указе ГКЧП — обещание предоставить каждому городскому жителю 15 соток земли бесплатно. Это оказалось недостаточно для всенародной поддержки. Людей настораживала двусмысленность позиции ГКЧП по принципиальным вопросам, да и сообщение о болезни и недееспособности Горбачева мало кто воспринял всерьез. Вместо того, чтобы честно сказать народу, что Президент практически самоустранился от руководства страной, в тяжелый период ушёл в отпуск, отказался возвратиться в Москву, хотя к нему приезжала представительная делегация. Вот поэтому до решения сессии Верховного Совета СССР власть передаётся вице-президенту. Это было бы понятно, всё было бы нормально. А здесь была попытка слукавить, схитрить. Так что народной поддержки ГКЧП не было, тем более, что вся публичная деятельность «путчистов» ограничилась публикацией обращения к народу и единственным указом, если не считать пресс-конференции, где они совершенно невнятно отвечали на вопросы журналистов. По свидетельству Ю. Прокофьева, все заседания ГКЧП проводились два раза в день и были столь же беспомощны и неконструктивны. План по вводу чрезвычайного положения не реализовывался. По большому счёту, и плана-то этого не существовало. (Камертон № 22, Август 2011 г. ).
Собственно говоря, членов ГКЧП привлечение народных масс, в частности КПСС, к участию в реализации собственных целей не волновало. В беседе с Прокофьевым Крючков заявил, что партия не должна в этом ( введении чрезвычайного положения) участвовать, это дело государственное. (там же).
Но и «массовое народное сопротивление» ГКЧП тоже из области исторических мифов. Несмотря на призыв Ельцина к бессрочной забастовке трудящихся, повторенном на следующий день вице-мэром Москвы Лужковым, никаких забастовок ни в Москве, ни в Ленинграде, ни в других крупных городах страны не было. Единственными забастовщиками оказались шахтеры пяти из 13 воркутинских шахт. Предприятия и учреждения работали как обычно, подавляющее большинство трудящихся наблюдало за происходящим по телевизору. Народ, как говорится, безмолствовал.
Что касается тех, кто поддержал Ельцина в эти дни, то нужно присмотреться к этим «активистам». Самое активное участие приняли те, кого застойный совок успел достать аж по самое горло, предприниматели и кооператоры, убоявшиеся, что у них отнимут всё нажитое непосильным трудом (хотя ГКЧП недвусмысленно высказался за многоукладную экономику и законное частное предпринимательство). В числе защитников Белого Дома было много «братков» из московских ОПГ, серьезно воспринявших обещание ГКЧП вести борьбу с криминалом. Кстати, среди организаторов «обороны» Белого Дома особую активность проявило кооперативное ЧОП «Алекс», во главе которой стоял имевший две судимости А. Елесин. Отметился среди защитников Белого дома и будущий главарь чеченских террористов Ш. Басаев, который по его признанию, видел в ГКЧП угрозу борьбе Чечни за независимость. Скорее всего он был не единственным представителем чеченской диаспоры в Москве, симпатизирующим Ельцину. Разумеется, среди сторонников Ельцина были и идейные демократы, либералы и даже осколки Российской империи — монархисты. Весь вопрос в том, какую часть из сторонников Ельцина представляли «белые и пушистые» идейные сторонники «свободы». Как утверждал один из руководителей созданного позже движения защитников Белого Дома, примерно половина людей, отстаивавших «свободу» в те дни, состояла из коммунистов. Каким образом он определил их количество, известно только ему- никакого учета, да еще с данными о партийной принадлежности на баррикадах и в Белом доме, разумеется, не велось — не до того было. А вот данные о числе граждан, вступивших в движение защитников Белого дома в эти августовские дни «Живое кольцо», известно — примерно десять тысяч человек. Оно разительно отличается от оценки числа защитников Белого Дома непосредственно в дни «путча». » Примечательно, что учрежденной в 1992 году медалью «Защитник Свободной России» было награждено в общей сложности до прекращения награждений в 2006 году менее двух тысяч человек. Сама эта медаль после расстрела российского парламента в Белом Доме в октябре 1993 года приобрела, мягко говоря, двусмысленный характер.
Своего рода трагифарсом представляется и гибель «жертв путча». Как отмечено в книге Башкировой и ее соавторов, трое погибших какое-то время были героями (им было присвоено звание Героев Советского Союза — страны, которую вскоре ликвидировал Ельцин). Между тем обстоятельства их гибели можно истолковать равно и как героизм, и как вопиющее раздолбайство, скверно поставленный и еще хуже сыгранный фарс.
Вот репортаж еще одного журналиста — Михаила Каменского — с места событий: «Люди предприняли успешную попытку набросить на триплексы (смотровые щели) БМП штатный брезент, ослепив экипаж. Им мешала сильно нетрезвая блондинка, которая постоянно бегала вокруг машины, пытаясь броситься под гусеницы. В какую-то секунду она оказалась позади машины, БМП резко подала назад, женщина с очевидным суицидным намерением шагнула ей навстречу. Стоявший рядом мужчина оттолкнул ее, споткнулся и был расплющен гусеницей, машина подала вперед и опять назад, расплющив его повторно. Нетронутыми остались только ноги, которые после боя увезли милиционеры…»
Погибшим устроили пышные похороны, о том, как был похоронен погибший водитель БТР, нигде не сообщалось, а ведь он был действительной жертвой событий, к которым не имел никакого отношения. Постепенно образы «жертв путча» поблекли: в седьмую годовщину событий, в1998 году, никто из представителей российских властей не принял участия в траурных мероприятиях, посвящённых памяти погибших. К тому моменту, за семь лет число сторонников ГКЧП в России, по данным Института социологии парламентаризма, увеличилось с 17 % до 25 %. А в 2005 году на встречу бывших участников событий на Горбатом мосту и на мероприятие на Ваганьковском кладбище в память погибших в инциденте в туннеле на Садовом кольце пришли лишь около 60 человек.
Мягко говоря, «странности» в поведении членов ГКЧП отметили и их противники, стоявшие по другую сторону баррикад. Ельцин признавал, что » нелепости в их (членов ГКЧП) поведении стали бросаться в глаза довольно быстро. Группа захвата из подразделения «Альфа», присланная сюда (в Архангельское) ещё ночью, так и осталась сидеть в лесу без конкретной задачи. Были арестованы депутаты Гдлян и Уражцев, а главные российские лидеры проснулись у себя на дачах, успели сообразить, что случилось и начали организовывать сопротивление. Пока я обратил внимание только на телефоны. Они работают, значит, жить можно… Я успел почувствовать: что-то тут не так. Настоящая военная хунта так себя не станет вести».
Ему вторит вице-президент А. Руцкой.»: я бы не называл события 1991 года путчем по той причине, потому что никакого путча не было. Было стремление определённой группы людей, руководства определённого бывшего Советского Союза, направленное на сохранение Советского Союза как государства любым путём. Вот была главная цель этих людей. Никто из них не преследовал каких-либо корыстных целей, никто не делил портфели власти. Одна цель — сохранить Советский Союз».
О том, что они не собирались совершать государственный переворот, убедительно говорили и сами «путчисты». По словам Янаева, он никогда не признавал, что совершил государственный переворот, и никогда не признает. <…> «Мы не разогнали ни одну структуру государственную, не посадили ни одного должностное лицо, даже Гавриила Харитоновича Попова, мэра Москвы, не освободили от работы, хотя он деликатного свойства информацию таскал американскому послу по 5-6 раз в день», отметил председатель ГКЧП.
Юридическую несостоятельность обвинений в попытке переворота продемонстрировал юрист по образованию А. Лукьянов: «Уже давно спорят, а что же такое было ГКЧП: путч, заговор или переворот? Давайте определимся. Если это был заговор, то где вы видели, чтобы заговорщики ехали к тому, против кого они сговариваются? Если это был бы путч, то это означало бы ломку всей системы государственной. А все было сохранено: и Верховный Совет СССР, и правительство, и все остальное. Значит, это не путч. А может, это переворот? Но где вы видели переворот в защиту того строя, который существует? Признать это переворотом даже при большой фантазии невозможно. Это была плохо организованная попытка людей поехать к руководителю страны и договориться с ним о том, что нельзя подписывать договор, который разрушает Союз, и что он должен вмешаться. Там были Болдин, Шенин, Крючков, Варенников и Плеханов. Всем им Горбачев пожал руки — и они разъехались. Это надо знать людям, это была отчаянная, но плохо организованная попытка группы руководителей страны спасти Союз, попытка людей, веривших, что их поддержит президент, что он отложит подписание проекта союзного договора, который означал юридическое оформление разрушения советской страны».
По одной из версий, Горбачев, завершая разговор с прилетевшими к нему в Крым «путчистами», назвал их мудаками. Судя по их поведению в последующие дни, увы, они заслуживали такого определения.
Неудивительно, что после ареста членам ГКЧП, лихорадочно выискивая состав преступления, так и не смогли предъявить обвинительного заключения и, чтобы не оконфузиться, разыграли спектакль с их помилованием, от которого отказался генерал Варенников и был освобожден «за отсутствием состава преступления».
А вот меры, предпринятые Ельциным под предлогом противодействия ГКЧП, вполне можно назвать реальным путчем с целью ликвидации еще существовавших государственных структур СССР. С 20 по 24 августа он издал ряд указов, выходящих за пределы его конституционных полномочий президента РСФСР и направленных на неправомерное присвоение союзной власти, в том числе указы о переподчинении союзных органов республиканским, о передаче союзных средств массовой информации в ведение Министерства печати и массовой информации РСФСР, о передаче всех видов правительственной связи СССР в ведение КГБ РСФСР, а также банков, почты, телеграфа СССР в ведение РСФСР.
Еще 22 августа Горбачев пытался как-то остановить лавину, но уже 23-го на встрече с российскими депутатами, понимая, что против рожна не попрешь, он фактически согласился с идущим на его глазах новым, теперь уже настоящим переворотом, призывая лишь, «чтобы все шло законным путем».
Ельцин не мог упустить и возможности добить КПСС. За месяц до «путча» он издал указ о так называемой «департизации», запрещавший деятельность парткомов на предприятиях и в учреждениях. Это практически привело к параличу работы первичных партийных организаций -стало невозможно проводить партсобрания, собирать членские взносы и т.д. В первый же день работы Верховного Совета РСФСР, 23 августа, он в присутствии Горбачева и вопреки его вялым возражениям подписывает указ о приостановлении деятельности КП России на том основании, что она поддержала ГКЧП. Вечером того же дня возле зданий ЦК КПСС скопились толпы людей. Перед зданием ЦК возник «стихийный митинг», возникла угроза захвата и разгрома зданий ЦК. По воспоминаниям Ю. Прокофьева, находившегося в тот день в горкоме партии, на выходе «нас встретила толпа — пьяные агрессивные люди. Было много журналистов, кино- и фоторепортёров: кто-то их предупредил, что мы будем выходить из здания. Меня спросили: «Как вы относитесь к происходящему?». Ответил: «Разве не видите? Это – фашисты». Мэр Москвы Попов оперативно принял меры, по его распоряжению здания ЦК КПСС и МГК КПСС на Старой площади были опечатаны, а после этого органы КГБ и милиции завершили оцепление всех зданий ЦК КПСС.
Уступки Горбачева следовали за уступками: вечером 24-го Горбачев распустил союзный кабинет министров, отказался от поста Генсека КПСС, а ЦК КПСС объявил о самороспуске. Но этого Ельцину показалось недостаточно — в ноябре 1991 года его указом деятельность КПСС и Коммунистической партии РСФСР на территории России была прекращена. Это настолько противоречило конституции, что через год Конституционный суд РСФСР был вынужден признать незаконным роспуск всей партии, законным был признан только лишь роспуск руководящих структур КПСС и руководящих структур её российской республиканской организации — КП РСФСР. КС установил, что указ Ельцина 1991 года не распространяется на организационные структуры первичных парторганизаций КПСС, образованных по территориальному принципу.
Так бесславно закончилось существование. партии, которая впервые в истории попыталась создать социалистическое общество, возглавляло борьбу страны против фашизма и внесла решающий вклад в победу над ним. Возвращаясь к августовским событиям, уже 23 августа стало ясно, что осуществляемый Ельциным реальный политический переворот по сути ведет к ликвидации советской власти в стране. Скорость происшедших тектонических сдвигов вызывала вполне обоснованные опасения по поводу будущего России. Исторический опыт свидетельствует о том, что победившая контрреволюция так же, как и революция, часто в своем развитии имеет тенденцию к радикализации. Как писали Стругацкие в своем футурологическом романе «Трудно быть богом», на смену «серым» приходят «черные». Рудик не мог игнорировать возможность прихода откровенных русских фашистов к власти в стране. И он принял решение — надо уезжать, даже если шансы столь неблагоприятного развития ситуации близки к нулю. Если бы речь шла только о его собственной судьбе, он мог бы еще повременить, посмотреть, куда «дует ветер». Но семья не оставляла ему выбора. Однако легко сказать — надо уезжать, намного сложнее осуществить это решение. Рудик не мог уподобиться лихим обезьянам Чуковского, хотя бы потому, что должен был подумать и о родителях. Они жили в Мытищах и с каждым годом им было все сложнее выбираться в Москву, чтобы приобрести все необходимое. Рудик решил, что надо уговорить их уехать вместе с ним. С братом, который согласился с его доводами, Рудик поехал к родителям. Для них решение сына было сюрпризом, до этого они никогда не обсуждали тему необходимости эмиграции из России. Рудик объяснил, почему он принял такое решение и сказал, что он не исключает того, что родители после переезда будут упрекать его и жалеть о том, что они поддались на его уговоры. Но для него невыносима мысль, что если они останутся, он из другой страны не сможет им ничем помочь в случае необходимости. Мама сразу же сказала, что она не хочет расставаться с Рудиком. Отчим, явно не хотевший уезжать, обратился к брату Рудика -«Ну а ты как думаешь?». Брат ответил сразу же — «я считаю, что Вам надо ехать». Отчим был в шоке — родной сын был готов с ним расстаться надолго, если не навсегда. Но брат Рудика просто трезво оценивал ситуацию. Его возможности помогать родителям были весьма ограничены, и брат предполагал, что Рудик сможет после переезда уделять родителям больше внимания, чем он в Москве.
Принятие судьбоносного решения ознаменовало своего рода рубеж в жизни Рудика — по инерции он продолжал прежнюю жизнь, но на все события в стране уже реагировал иначе, со стороны, как своего рода аутсайдер.
Между тем страна продолжала стремительно меняться — еще в августе провозгласили независимость и заявили о своем выходе из СССР Эстония, Латвия, Украина, Молдавия, Азербайджан, Узбекистан и Киргизия, осенью за ними последовали остальные. Республиканские элиты торопились воспользоваться предоставившейся им возможностью править самостоятельно.
А в начале сентября «самораспустился» Съезд народных депутатов СССР, подведя черту под семьюдесятью с лишним годами существования СССР. Символично, что навсегда распустив съезд, Горбачев сфотографировался на память не с коммунистами, а с членами Межрегиональной депутатской группы. После этого пост президента СССР превратился в декоративный, но не надолго. В декабре в Беловежской Пуще был подведен окончательный итог -Ельцин, Кравчук и Шушкевич констатировали, что СССР прекращает свое существование, объявили о невозможности образования ССГ и подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Позднейшие сожаления Бориса Ельцина и Леонида Кравчука (озвученные в 1996 и 2007 годах соответственно) уже ничего не могли изменить.
Все политики, прямо или косвенно приложившие руку к ликвидации СССР, обычно ссылаются на то, что он был обречен на исчезновение. Расходятся только в определении момента, когда крах страны стал неизбежен. Е. Гайдар, ничтоже сумняшеся, безапеляционно определил даже точную дату: » Дата краха СССР… она хорошо известна. Это, конечно, никакие не Беловежские соглашения, это не августовские события, это 13 сентября 1985 г. Это день, когда министр нефти Саудовской Аравии Ямани сказал, что Саудовская Аравия прекращает политику сдерживания добычи нефти, и начинает восстанавливать свою долю на рынке нефти. После чего, на протяжении следующих 6 месяцев, добыча нефти Саудовской Аравией увеличилась в 3,5 раза. После чего цены рухнули.» Как тут не вспомнить Кузьму Пруткова, который отметил порок, присущий многим специалистам, подобным флюсу-полнота их односторонняя. Так и поклонник западных экономических теорий ничего, кроме цен на нефть, не замечает. Другие специалисты отодвигают дату, предопределившую будущий крах СССР, в начало 80-х годов, когда советским гражданам стало ясно, что обещанный им двадцать лет назад коммунизм не наступил и неизвестно, наступит ли он вообще. Можно пойти еще дальше и вспомнить белоэмигрантов, которые каждый год ожидали неминуемого краха большевистской России. И все же, окончательную «точку невозврата», как уже отмечалось выше, СССР прошел в предпоследний год перестройки — в 1989 году. Разумеется, бессмысленно гадать, чтобы произошло в том случае, если бы тогда Горбачев решился на чрезвычайные меры. Но тезис о неизбежности краха СССР и социализма неубедителен. С таким же основанием можно сказать, что если бы не болезнь почек Андропова, СССР существовал бы до сих пор. И он бы не рухнул, если бы в стране наладили бы производство джинсов. И не было бы сепаратистских настроений в Прибалтике, если бы вместо запуска в космос монгола, румына и чеха отправили бы в космос эстонца, латыша и литовца. Да мало ли было наделано ошибок и откровенных глупостей. Но если говорить серьезно, то можно согласиться с американским экономистом, который здраво отметил, что «мы стремимся говорить о фактах, свершившивхся, как о неизбежных, и попытки доказать, что то, что случилось, могло бы не случиться, как правило опровергаются как неудачные оправдания проигравшей стороны. Но коллапс советской системы был побочным результатом небольшого числа катастрофических решений нескольких человек». (Y. Kantorovich 1993 WWW Za nauku.) И все же вопрос остается — почему вышло как вышло? Один из российских блогеров по этому поводу размышляет: «19 миллионов членов КПСС, 5-миллионная советская армия, по меньшей мере, миллионные внутренние войска и МВД, не говоря уже о могущественном КГБ в 1991-1992 гг. предали свой любимый… СССР без единого выстрела. Куда ушли руководящие коммунисты и чекисты, может быть организовали, добровольческую армию, чтобы бороться за свою горячо любимую Советскую Армию, за родную советскую Родину, за родную советскую власть, за социализм, за единый и неделимый СССР? Отнюдь нет, занялись приватизацией, переехали из обкомов и райкомов в офисы. То же касается и массы рядовых советских патриотов, которые сейчас льют крокодиловы слезы по Величайшей Геополитической Катастрофе. Неизвестно не единого случая, чтобы они подались в советские партизаны. Даже феномена советского (коммунистического) терроризма после распада СССР страна не знала. И слава Богу, конечно, Но факт остается фактом — советские патриоты совершили массовую государственную измену, не оказали никакого сопротивления капитуляции и распаду СССР.» По мнению автора этих горестных размышлений, причиной такого поведения масс являлся успех манипуляции массовым сознанием: «хорошее или плохое, мифологизированное или не очень, но в любом случае систематическое советское сознание фрагментировали до нужных пределов, ибо систематическое мышление есть синоним самостоятельного, которое плохо подается зомбированию». Ну а если говорить попроще, то «систематическое советское сознание» было далеко не всеобщим достоянием общества, Грубо говоря, необходимой «культурки» этому обществу, чтобы занять активную позицию по отношению к происходящему демонтажу прежних ценностей и идеалов, катастрофически нехватало. Усвоенная советская культура с большинства граждан слетела, как шелуха.
Но Рудику было не до размышлений о судьбе страны, с которой он уже в душе распрощался. Жизнь все больше превращалась в процесс выживания. Хотя в институте он сменил статус старшего научного на ведущего научного сотрудника, прибавка к зарплате была символической. Еще в октябре-ноябре 1991 года из магазинов крупных городов один за другим исчезли продукты питания, а рост цен на продовольствие в государственной торговле достиг 300–400%. Не дожидаясь официального объявления правительства о введении свободных цен, местные власти пытались ввести практику так называемых договорных цен и дотировать продукты питания первой необходимости. Но все тщетно. Дотируемое и поэтому дешевое продовольствие раскупалось моментально, а общий уровень цен на продукты питания в магазинах постепенно подтягивался к ценам колхозных рынков. В результате возникла угроза тотального дефицита продуктов питания. Рудик помнит, как его поразили пустые прилавки в большом гастрономе рядом с метро «Павелецкая», на которых за стеклом во всех отделах красовались только пакетики с грузинской приправой «Хмели Сунели».
Но до этого в декабре 1991 года Рудик неожиданно для себя оказался в Южной Корее в составе делегации сахалинских аграриев. Неделя пребывания в этой стране оставила неизгладимые воспоминания. Эту фантасмогорическую поездку организовал Валентин Федоров. После того, как он стал председателем облисполкома на Сахалине, наступил его звездный час. Вскоре он был избран депутатом Верховного Совета РСФСР. Российские СМИ печатали многочисленные интервью с ним, где он рассказывал, как «построит на Сахалине капитализм», в Японии его называли «сахалинским Ельциным». Его экономические идеи укладывались в красивый, но туманный лозунг «трех «Ф»- новые формы, фирмы, фермы».
По многочисленным приглашениям Федоров ездил в различные страны Тихоокеанского бассейна, включая США, и принимал не менее многочисленные делегации из-за рубежа. Зарубежные гости прощупывали почву, какие прибыли они могут извлечь из своих инвестиций в экономику острова, где проводился столь необычный для прежних времен эксперимент. Одна из таких делегаций, представлявшая южнокорейскую фирму, точнее конгломерат, включавший в себя промышленные предприятия, гостиницы и рыболовный промысел, предложила поставлять на Сахалин комбикорма для свиноводческих ферм. Корейцы утверждали, что использование их кормов позволит существенно сократить период выращивания свиней и тем самым заметно сократить издержки в этой отрасли животноводства. Это, в свою очередь, сделает сахалинскую свинину конкурентоспособной на азиатском рынке, в частности в той же Южной Корее, и позволит в кратчайшие сроки возместить расходы на приобретение комбикормов у этой южнокорейской фирмы. Чтобы подкрепить свои аргументы, корейцы пригласили на ознакомительную поездку в Корею делегацию сахалинских аграриев. И тут Валентина осенила идея – почему бы не включить в эту делегацию своего старинного приятеля Рудика? Корейцам в принципе было все равно, кто будет представлять Сахалин, а Федорову эта дружеская услуга не стоила ни копейки государственных денег – всю поездку от вылета из Хабаровска и возвращения туда же оплачивали корейцы. Валентин связался с Рудиком и предложил ему этот сказочный вариант, от которого попахивало авантюрой, но и времена были совершенно фантасмагоричные. Все же Рудик на всякий случай просидел в Ленинке несколько дней, штудируя литературу по кормам для свиноводства, положению на мировом рынке свинины и т. п. Рудик даже не стал информировать никого в институте о предстоящей поездке в Корею, он просто исчез на неделю, что стало привычным для многих сотрудников института.
В декабре 1991 года новоиспеченный специалист по кормам для свиноводства из Москвы в составе сахалинской делегации аграриев вылетел из Хабаровска в Сеул. Пребывание в Южной Корее было своего рода феерией, состоявшей из посещения различных мероприятий в частности развлекательного характера, сопровождающихся потреблением больших доз горячительных напитков, в основном предпочитаемой корейцами водки лучших марок: Тигровой и шведского Абсолюта. День строился так: с утра проводилось официальное мероприятие, во время которого проводилась своего рода церемония «обмена рюмками». Один из присутствовавших корейцев наливал рюмку себе и с поклоном протягивал рюмки российским гостям, которые под его неусыпным надзором выпивали за его успехи и здоровье. Затем процедура повторялась со следующими корейцами, которых могло быть до пары десятков человек. Поэтому, хотя рюмки были небольшие, принятая доза была довольно значительной. После этого хозяева несколько раз возили делегацию в увеселительные заведения, где кореянки, что-то вроде японских гейш, но, скажем так, более раскованные в своем поведении, старались изо всех сил напоить гостей как можно сильнее. Потом ехали в гостиницу с сопровождающим делегацию корейцем и устраивали третий тур «соревнования»: разумеется, у сахалинских аграриев был собственный запас спиртного. Сахалинцы были крепкие ребята, от принятия напитков глава делегации, бывший подводник, только менялся в лице, которое приобретало совершенно неестественный багрово-синий оттенок. Но Рудик был слабаком, на третий тур его уже не хватало и он убегал в свой номер, сказав на прощанье – one minute. Полночи он бегал по потолку и с раскалывающейся на следующее утро головой со страхом ожидал очередных соревнований. К концу поездки Рудика уже мутило от одного вида спиртного. При посещении последнего увеселительного заведения он вылил свою рюмку в рюмку обслуживающей его корейской девицы, которая уже была под шафе после визита предыдущих посетителей. Однако подружка обратила ее внимание на неподобающее поведение клиента. Кореянка не на шутку разозлилась и вдруг начала щипать Рудика. Было не очень больно, но достаточно смешно. Рудик потом прикинул, что за неделю в Корее он выпил свою норму спиртного примерно за год. Так что знакомство с Южной Кореей проходило под сильным воздействием винных паров.
Тем не менее, впечатления были очень яркие. Рудик никогда не забудет посещение огромного оптового рынка морепродуктов в Сеуле –ни один океанариум, в которых побывал Рудик в своей жизни, не мог конкурировать по разнообразию морской живности с этим сеульским чудом. Возили сахалинскую делегацию и на огромный мясной комбинат, где применялись самые современные методы забоя животных, однако. впечатления были не из приятных. Хотя гости наблюдали весь процесс сверху из застекленного коридора, все же было жутковато смотреть на конвейер, где подвешенных свиней убивали электротоком. Рудик обратил внимание, что рабочие на этом конвейере были в масках и не снимали их, даже выйдя из цеха. Повезли сахалинцев и на завод, где производились комбикорма из покупаемой в Китае кукурузы. Из рассказа хозяев выяснилось, что оборудование для завода закупалось во многих странах, что-то производилось и на отечественных предприятиях. Рудик обратил на это внимание, поскольку в СССР был популярен другой способ использования зарубежных технических достижений – приобретение предприятий «под ключ», то-есть, абсолютно все до последнего винтика поставлялось из-за рубежа. За все несли ответственность зарубежные партнеры советских министерств, у руководителей которых не болела голова по поводу эффективности зарубежной техники. Не говоря уже о том, что приобретение предприятий под ключ обходилось намного дороже, чем по корейской практике, оно не способствовало внедрению новых технологий и техники на других предприятиях. Что касается корейского завода, то хозяева не без гордости объяснили, что у них безотходное производство – сырье перерабатывается полностью и помимо комбикормов выпускается еще ряд продуктов. Кстати, и комбикорма имеют ряд модификаций –на различных этапах выращивания животных используются разные виды кормов, что и позволяет заметно сократить общую продолжительность их выращивания.
Посетили сахалинцы и новый молокоперерабатывающий завод, где производились такие сравнительно новые на корейском рынке продукты, как йогурты, твердые сыры и т. д. Корейцы, в питании которых еще недавно преобладали «рыба и рис», успешно осваивали европейскую формулу питания — «мясо, молочные продукты и хлеб».
В первые дни пребывания в Корее Рудик на себе испытал все прелести традиционной корейской кухни – по утрам сахалинских гостей водили в гостинице завтракать в ресторан с корейской кухней. Рудик очень страдал от отсутствия чая, взамен которого предлагался рисовый отвар. Не вызывало восторга и пристрастие корейцев к редьке – этот любимый корейский овощ потреблялся в соленом, маринованном и бог знает еще в каком виде. На третий день Рудик взбунтовался и его отвели в европейский ресторан в той же гостинице, принадлежавшей фирме, которая пригласила сахалинцев. Она располагалась в самом центре Сеула, где квадратный метр земли по рассказам хозяев стоил примерно миллион долларов. Рудику в это даже не верилось, приватизация жилья в Москве только начиналась, и никто тогда не мог предположить, что за считанные годы земля подорожает в разы. В последний день поездки сахалинцев привели в огромный супермаркет в Сеуле, где предложили приобрести на выбор подарки от фирмы. Рудик выбрал модную в те времена зимнюю куртку «Аляска» для дочки.
Суммируя свои впечатления, Рудик задумался об истоках корейских успехов в процессе модернизации своей экономики. Разумеется, как и у народов всех стран Восточной Азии потрясающее трудолюбие было одним из плодов рисовой цивилизации. Культивирование риса как основного продукта питания сопряжено с постоянным трудом на рисовых полях. Во время поездки через всю страну на юг почти до Пусана Рудик видел на рисовых полях крестьян, высаживавших рассаду, а это был декабрь, когда на российских полях лежал снег и можно лежать на печи и есть куличи. Второй момент – сложность усвоения корейского языка, в котором наряду с фонетическим письмом, созданном корейцами несколько сот лет назад, используются и иероглифы. Это тоже требует огромных усилий.
Структура корейского языка в корне отличается от структуры русского языка. Корейский алфавит (хангыль) — уникален, и это тоже является аспектом корейской культуры. До его создания в Корее использовали китайские иероглифы, только произносили их иначе. Причина создания своего алфавита, заключалась в том, что использованию китайских иероглифов очень трудно научиться простым людям, а грамоте обучались в то время только дворяне, и для того чтобы бороться с безграмотностью населения и повышать его культурный уровень и был создан (хангыль).
Восприятие мира корейцами значительно отличается от традиционных представлений населения России. В Корее существует, прежде всего, возрастная и должностная иерархия, которая строго ими соблюдается. Эта иерархия отражена в корейском языке: есть четыре основных уровня вежливости, то есть чем старше человек (по возрасту или по чину), тем «выше» уровень вежливости. И совершенно недопустимо разговаривать, например, с учителем, в неофициальном стиле речи, это может быть принято не только как неуважение, но и оскорбление. Получается так, что в корейском языке для каждого типа отношений существует свои правила разговора. В русском языке таких правил нет.
Корейскому школьнику не позавидуешь — для того, чтобы приобрести минимальный словарный запас, освоить все существующие стили общения, усвоить различия между письменной и устной речью, ему требуется намного больше времени и усилий, чем его европейскому или американскому ровеснику. Особо надо было бы отметить роль японских концернов и «американизации» в модернизации Южной Кореи, но это уже далеко от темы личных воспоминаний нашего героя.
Последнее, что запомнилось Рудику из этой поездки – это российский «челнок» с невообразимым количеством клетчатых баулов в сеульском аэропорту и прибытие в Хабаровск, где при морозе в 30 градусов пришлось ждать в фанерном павильоне прохождения таможенного и пограничного контроля более часа. Но все кончилось благополучно, Рудик даже не простудился и прибыл домой здоровым и переполненным впечатлениями.
Но гостеприимство корейских бизнесменов не принесло им желаемого результата. Как оказалось, они хотели получить концессию на участок побережья Сахалина, чтобы организовать там промысел крабов. Что касается поставок сахалинской свинины на азиатские рынки, то это изначально было приманкой, не имевшей никаких реальных перспектив. Сахалинцы по определению не могли конкурировать с американскими, да и южнокорейскими производителями свинины на этом рынке, что Рудику стало понятно даже после поверхностного ознакомления с этой темой в Москве еще до поездки. Увы, у Федорова не было свободных участков морского побережья и он не мог удовлетворить просьбу корейской фирмы. Так закончилась несостоявшаяся «революция» в сахалинском свиноводстве. Дальнейшая судьба этой отрасли на острове была плачевна: поголовье свиней сократилась за 1991-2000 годы более, чем в 18 раз и составляло в 1999 году всего 8 тысяч. Это говорит о том, что основная часть поголовья сохранилась в подсобных хозяйствах сельского населения. Впрочем, не лучше обстояло дело и с другими отраслями сельского хозяйства – так, поголовье крупного рогатого скота за тот же период уменьшилось в 9,6 раза, производство мяса уменьшилось на 92%, молока — на 73%. По приводимым в СМИ данным из 1000 фермерских хозяйств, существовавших в начале 90-х годов, осталось 150.
Не произошло расцвета и в такой потенциально перспективной отрасли, как рыболовство и добыча морепродуктов. После появления частных компаний в этом секторе экономики наиболее крупные из них захватили доминирующие позиции. Пользуясь бесконтрольностью и неадекватностью пограничной и рыбоохранной законодательной базы, сахалинские рыбопромышленники сдают добытую морепродукцию в японские порты с сокрытием от учета и зачастую за бесценок. Совокупные потери бюджета Сахалинской области в результате демпингования цен на экспорте морепродукции, сокрытия валютной выручки за рубежом, уклонений от налогообложения, взаимонеплатежей, нецелевого использования государственных инвестиций и дотаций, иных противоправных валютно-финансовых операций ежегодно достигают нескольких миллиардов рублей. Только на экспорте в Японию лососевых и краба Россия теряет в год не менее миллиарда долларов США. Можно уверенно предположить, что на долю Сахалинской области, где добывается основная масса этой морепродукции, приходится больше половины потерь.
И в других отраслях хозяйства на острове произошло падение производства. В целом выпуск промышленной продукции в 1997 году сократился по сравнению с 1991 годом в 2,2 раза, Сахалинская область потеряла четверть населения.
Впрочем, не только на Сахалине эксперимент под названием «свободная экономическая зона» окончился неудачно.
В 1990-1991 гг. по России прокатилась настоящая волна создания всевозможных СЭЗ. За этот период появилось 12 СЭЗ: особая экономическая зона“Янтарь” в Калининградской области, СЭЗ “Находка” в Приморском крае, СЭЗ “Даурия” в Читинской области, свободные предпринимательские зоны в Ленинграде и Выборге, СЭЗ “Сахалин” в Сахалинской области, СЭЗ в Алтайском крае, СЭЗ “Ева” в Еврейской автономной области, СЭЗ “Садко” в Новгородской области, СЭЗ “Кузбасс” в Кемеровской области, СЭЗ “Технополис Зеленоград”, экологическая и экономическая зона “Горный Алтай” в Республике Алтай. В последующие годы было создано еще 12 СЭЗ.
Территориальные масштабы многих зон были заведомо нереальными. Для инфраструктурного обустройства большинства из них требовались солидные капиталовложения, обеспечить которые российское правительство было не в состоянии. От идеи обширных зон пришлось отказаться. Стало понятно, что обеспечить ресурсами можно только локальные зоны, где действительно сосредоточиваются государственные и региональные интересы России.
СЭЗ, появившиеся в России до 2006 г., создавались искусственно, в результате чего они превратились в “дыры” для утечки капитала.
Так что осталось от эпохи строительства капитализма в отдельном регионе при первом губернаторе Сахалина Валентине Федорове? Рукотворным памятником ему остался созданный по его инициативе рынок, который народ назвал «Федоровкой», так же, как близлежащую автобусную остановку. Однако Валентин останется в истории не столько как один из плеяды реформаторов ельцинской эпохи, а как решительный противник передачи Южных Курил Японии. К этому шагу склонялся еще Горбачев со своим министром иностранных дел Шеварднадзе, а при Ельцине его ближайшее окружение было готово «сдать» Южные Курилы. Надо отдать должное Федорову, не задумываясь о возможном конце своей политической карьеры, он неоднократно публично выступал против передачи каких-либо островов Японии. Выступая на парламентских слушаниях 23.10 1991 г. по проблеме Южных Курил, Валентин заявил, что «Жители Сахалинской области с нарастающей тревогой и возмущением воспринимают намерения некоторых руководящих деятелей России произвести отторжение Южных Курил и передать их Японии. Обеспокоены не только сахалинцы, но и восемь регионов Дальнего Востока. Там проходят теперь предупредительные забастовки. Создается без всякой необходимости новый очаг напряженности в России. Это подорвет доверие к российскому руководству. Если отдадут острова, то это несчастье вызовет цепную реакцию разрушительной перекройки границ по всему периметру границ нашей страны»
Четкости и отточенности формулировок Федорова можно только аплодировать. Разумеется, не только выступления Федорова предотвратили передачу Южных Курил Японии в те годы, но его заслуга в сохранении суверенитета России в этом вопросе бесспорна. Однако дальнейшая политическая карьера Федорова в большой политике не задалась, В Москве ему не простили чрезмерной самостоятельности. Назначенный главой областной администрации после ликвидации местных советов народных депутатов он сам собственным указом объявил себя губернатором. Федоров был не согласен и с установленным в Москве разделом доходов от разработки сахалинских месторождений нефти, требовал увеличения доли доходов, остающихся на Сахалине. В результате его «ушли», вынудив подать в отставку. После недолгого пребывания в Москве он вернулся на родину в Якутск, куда его пригласили на пост председателя Совмина, Однако и там он не сумел ужиться с местной республиканской элитой. На этом его политическая карьера завершилась и Валентин в конечном счете вернулся к тому, с чего он начал много лет назад — к работе в Академии Наук, но теперь в качестве заместителя директора в Институте Западной Европы. В какой-то мере его уход из политики был предопределен отсутствием собственной команды и тем, что он по своей натуре не обладал достаточной гибкостью, необходимой для успешной политической карьеры.
А Рудик, вернувшись из Южной Кореи и раздав гостинцы своим близким, отметил предпоследний Новый Год на доисторической Родине. Традиционно звучали тосты с пожеланием счастья в наступающем году, но все понимали, что наступающий год будет очень тяжелым. Эти настроения отражались в песнях эстрадных коллективов:
«Над страной родною солнышко встаёт. А российский мужик пьяный уж орёт. Наплевать на колхоз, ТЬФУ! и на завод Девяносто второй выдержать бы год».
Группа «Гуляй мужик!» , 1992
В 1992 году бывшие советские граждане жили уже совершенно в другой стране. Исчез не только Советский Союз, но и Россия перестала быть советской и социалистической — осталась только Российская Федерация, где на смену красному флагу с серпом и молотом пришел триколор, а вскоре исчели и советы, которых заменили думы, а затем из прошлого вернулись и губернаторы.
На окраинах бывшего СССР да и самой России все жарче разгорались национальные конфликты. Воюют осетины с грузинами (1991—1992); грузины с грузинами (1991—1993); армяне с азер¬бай¬д¬жан¬ца¬ми (1991—1994); абхазы с грузинами (1992—1993); осетины с ингушами (1992); молдаване с приднест¬ров¬ца¬ми (молда¬ва¬на¬ми вперемешку с русскими и украинцами) (1992); таджики с таджиками (1992—1997); чеченцы с центральной властью (1994—1996, фактически — с 1990 года)…
Но в Москве новые власти были озабочены другими проблемами. Оказалось, что убрать из названия страны слова «советская и социалистическая республика» намного проще, чем «искоренить» социализм в экономике, для чего было необходимо трансформировать общественную собственность в частную. Возникли многочисленные вопросы -кому доверить проведение сложных и болезненных реформ, что и в каком порядке менять в огромной российской экономике.
Получивший практически неограниченную власть в России первый «всенародно избранный» президент Борис Ельцин приступил в обстановке хаоса и неразберихи к радикальным рыночным реформам. Уже забыв про обещание лечь на рельсы, чтобы не допустить повышения цен, он заявил осенью 1991 г. на Съезде народных депутатов, что хуже всем будет примерно полгода, затем – стабилизация обстановки и постепенное повышение жизненного уровня россиян. Он вероятно верил, как и российские либералы, что достаточно трех указов — о частной собственности, свободе предпринимательства и свободе цен, для начала стихийного действия созидательных сил рынка. Это, может быть, и так, но только в трудах представителей неоавстрийской школы политической экономии, хотя и там картина эволюционного отбора правил и норм не столь прямолинейна и проста, как представляли российские либералы. Тем не менее, именно их Ельцин привлек для проведения реформ. При расхождениях по конкретным вопросам все российские экономисты либерального толка были последовательными монетаристами и так называемый «Вашингтонский Консенсус» был для них своего рода священным писанием.
Вашингтонский консенсус был сформулирован английским экономистом Д. Уильямсоном в 1989 году как свод правил экономической политики для стран Латинской Америки. Документ имел целью обозначить отход этих стран от командной модели экономического развития 1960—1970-х гг. и принятие ими принципов экономической политики, общих для большинства развитых государств. По мнению Уильямсона, эти принципы отражали общую позицию администрации США, главных международных финансовых организаций —МВФ и Всемирного Банка, а также ведущих американских аналитических центров. Их штаб-квартиры находились в Вашингтоне — отсюда и термин «Вашингтонский консенсус».
«Вашингтонский консенсус» включает набор из 10 рекомендаций: Поддержание фискальной дисциплины (минимальный дефицит бюджета); Приоритетность здравоохранения, образования и инфраструктуры среди государственных расходов; Снижение предельных ставок налогов; Либерализация финансовых рынков для поддержания реальной ставки по кредитам на невысоком, но всё же положительном уровне; Свободный обменный курс национальной валюты Либерализация внешней торговли (в основном за счет снижения ставок импортных пошлин); Снижение ограничений для прямых иностранных инвестиций; Приватизация, Дерегулирование экономики; Защита прав собственности.
Соблюдение основных пунктов Вашингтонского Консенсуса — приватизации, либерализации цен, внутренней и внешней торговли, жесткой монетарной политики — было условием получения займов МВФ, Всемирного банка и других международных финансовых институтов. Эта стратегия во всем мире приводила к одинаково негативным последствиям: разрушению экономик развивающихся стран, усилению их бедности и внешней зависимости.
* Забегая вперед, можно отметить, что в апреле 2011 г. глава МВФ Д. Стросс-Кан выступил с заявлением, что «Вашингтонский Консенсус» с его упрощенными экономическими представлениями и рецептами рухнул во время кризиса мировой экономики и остался позади»
Но для российских монетаристов, таких, как Е. Гайдар и главные теоретики в его группе В. Мау и А. Илларионов, в начале 9-х годов «Вашингтонский Консенсус», работы американских экономистов М. Фридмана, Дж. Стиглера и ДЖ. Сакса, а также Ф. фон Хайека и Л. фон Мизеса, которых они цитировали в своих научных публикациях, представляли своего рода катехизис, не подлежавший какому — либо сомнению. Двумя символами веры в этом катехизисе являлись » Невидимая рука рынка» и доминирование на рынке «Homo economicus», озабоченного лишь увеличением собственного благосостояния. Как отметил российский журналист В. Гендлин, те, кто связывал будущее страны с капитализмом, с нетерпением ожидали явления «невидимой руки рынка». Очень хотелось пожать эту мужественную руку, но никак не удавалось, она невидимо и неслышно шарила по карманам граждан и по «закромам Родины».
На сатирическом сайте «Lurkmore. to» вера либералов в «невидимую руку рынка» высмеяна не менее язвительно: «поскольку среднестатистический либераст никаких серьезных трудов по экономике, включая того же самого Адама Смита, никогда не читал, невидимая рука рынка играет для него роль Б-га, который всеведущ, всезнающ и справедлив. Вообще, давно замечено, что знать европейскую культуру совсем необязательно, чтобы её любить. Когда либерасту надо доказать свою правоту, он говорит, что НРР всё сама расставит по своим местам и всё тут, баста. На этом месте либераста можно тонко или толсто троллить, сравнивая Невидимую Руку со Снежным Человеком, пугая его Невидимой Ногой или Невидимыми Когтями, или предлагая доказать, какая Рука сильнее — Невидимая Рука Рынка или Невидимая Рука Кремля/Госдепа. В любом случае, надо предложить ему объяснить, как именно эта Рука работает и почему в данном конкретном случае от нее будет всеобщий ПРОФИТ. Поскольку либераст, скорее всего, мыслит шаблонами, подобные вопросы неизбежно введут его в ступор.
Не меньше поводов для критики дает другой символ веры либеральных экономистов — существование «Homo economicus». Как отметил известный французский социолог П. Бурдье, «экономический человек» в ортодоксальной экономике (имеется в виду западная экономическая мысль), в явном или неявном виде есть некий антропологический монстр. (П. Бурдье. Поле экономики. 1997 г.)
Утопизм воззрений российских лидеров по проблемам рынка отмечался и другими западными исследователями. Так, профессор Стэндфордского университета Р. Солсо писал, что русские на первых этапах реформ слишком идеализировали саморегулирующую, стихийную рыночную организацию с апелляциями к «невидимой руке» рынка (по А. Смиту). «…За модель была принята крайне мифологизированная интерпретация свободного рынка.., хуже того, выбор капиталистической модели, которая относится к восемнадцатому веку и представляет из себя крайне примитивную форму рыночной экономики, отнял пять лет, в течение которых мог быть построен фундамент для перехода к современной капиталистической экономике».
В 2002 году Нобелевскую премию по экономике получили В. Смит и Д. Камерон. Лауреаты в своих работах сделали попытку экспериментально проверить существование в природе Homo Economicus, который всегда принимает рациональные решения к своей собственной выгоде. Ну, или к тому, что его убедили по телевизору считать выгодой. Выяснилось, что эти индивиды реально составляют очень незначительную часть человеческих популяций. Остальные действуют преимущественно иррационально, точнее их действия являются рациональными на другом (более высоком) уровне. Подавляющая часть людей вполне осознанно может пойти на ограничение личных потребностей ради общественного блага, и не будет особо переживать на этот счет. Особенно, если и другие сделают это. Кстати, экспериментальные результаты, полученные нобелевскими лауреатами, практически один к одному совпадают с теоретическими построениями российского ученого Бориса Поршнева. Тот тоже доказывал, что Homo Economicus, гребущий все под себя, вовсе не есть видовая норма. А напротив являет собой пример отступления от базового генотипа человека разумного.
Скорее всего, Ельцин не имел нонятия ни о «невидимой руке руке рынка», ни о «Homo Economicus», но понимал, что задачу реставрации капитализма в России без российских либералов ему не решить. Сначала он предложил встать во главе либеральных реформ Григорию Явлинскому, одному из авторов программы «500 дней», получившей одобрение западных экспертов. Но у Явлинского были принципы: сохранение экономического единства постсоветского пространства и проведение перед либерализацией цен приватизации мелкой и средней госсобственности для «связывания» денег населения. Но этот потенциальный реформатор переоценил свой престиж. Забыл Ельцин и о том, что Явлинский сделал свой выбор в его пользу еще летом 1990 года, когда исход борьбы между Горбачевым и Ельциным был далеко не ясен. После отказа Ельцина по обоим пунктам Явлинский ушел в оппозицию, надеясь, что его еще позовут, но, увы, этого не произошло никогда. Лишь после «размолвки» с Явлинским Ельцин сделал предложение Егору Гайдару, которое тот с восторгом принял: он хотел власти.
Е. Гайдар окончил среднюю школу с золотой медалью и затем экономический факультет МГУ с красным дипломом. По свидетельству Г. Попова, Гайдар учился на факультете, где Попов был деканом и знал, как формировалась его идеология. Он учился на отделении зарубежной экономики и специализировался по Чили. На факультете освобождали время в учебной программе для зарубежников для изучения ими языка страны. И сокращали курсы по политэкономии, по истории экономических учений. В итоге те, кто изучал Швецию, знал «шведскую модель“, а те, кто Чили, — шоковую модель Пиночета. Потом западные специалисты рекомендовали „шок“ и для выхода из социализма. Отсюда его приверженность монетаристской концепции и идее „шокового“ перехода к рынку, который осуществит „силовик“. Гайдару, как и большинству успешно учившихся в школе и вузе, был присущ «синдром отличника» — убежденность в непоколебимости знаний, полученных во время учебы, и порожденная этой убежденностью самоуверенность. Все, что не совпадало с его теоретическими воззрениями, он игнорировал. Наблюдая за реформами Гайдара, Рудик шутя говорил своим сослуживцам, что необходим закон, запрещающий занимать высшие государственные посты отличникам — это чревато крупными неприятностями для страны.
Биография Гайдара после окончания учебы в МГУ не предвещала последующей блестящей карьеры — тема его кандидатской диссертации ограничивалась анализом относительно узких проблем конкретной экономики. Как и большинство других молодых специалистов, Гайдар вступил в КПСС и в 1980 г.поступил на работу в институт системных исследований (ВНИИСИ), где работал в лаборатории С. Шаталина. С ним он проработал многие годы сначала в ВНИИСИ, а потом в институте экономики и прогнозирования .
С 1987 по 1990 годы Гайдар занимал должность редактора и заведующего отделом экономической политики в журнале ЦК КПСС «Коммунист», который стал одной из площадок для дискуссий по вопросам реформирования в СССР. Гайдар, опубликовал в этом журнале и ряд своих статей, которые принесли ему известность в ряду других перестроечных публицистов. В 1990 году Гайдар переходит в газету «Правда», где заведует отделом экономики. Однако важнейшую роль для дальнейшей карьеры Гайдара имело создание по инициативе академика А. Аганбегяна института экономической политики и назначение Гайдара его директором. В этом же году Гайдар защитил докторскую диссертацию на тему «Экономические реформы и иерархические структуры».
Тем не менее, Гайдар перед началом экономических реформ не имел такого научного веса, как группа академиков — экономистов. Как отмечала Н. Шматко, признание за ним особой научной компетенции как знатока западных экономических учений, благодаря которой он якобы был призван возглавить экономические реформы, не подтверждается работами, вышедшими в свет до его вхождения в правительство. Анализ публикаций показывает ограниченность этой компетенции несколько поверхностным знакомством с классическими теориями и более глубокое знание экономистов таких социалистических стран, как Венгрия и Чехословакия. В начале Гайдар опирается на восточноевропейские модели рынка, в частности на венгерскую систему. Затем его позиция становится более радикальной, и в качестве образца берется чилийская модель. Можно благодарить Б-га, что только ее экономическая часть, а не кровавая расправа Пиночета со всеми левыми в стране.
Ельцину импонировала расторопность, проявленная Гайдаром в дни «путча». Уже 20 августа собранное им партсобрание его Института приняло решение о выходе сотрудников из КПСС. Вечером того же дня Гайдар направился в Белый дом и через будущего руководителя своего аппарата Головкова познакомился с госсекретарем РСФСР, бывшим свердловским преподавателем марксистко-ленинской философии Бурбулисом. Бурбулису Гайдар понравился и он рекомендовал Ельцину поручить Гайдару осуществление необходимых реформ. В ноябре Гайдар стал вице-премьером «по вопросам экономической политики». Ельцин, разумеется, не мог оценить профессиональную компетенцию в прошлом скромного сотрудника журнала «Коммунист» и академических институтов. Единственный критерий, которым руководствовался Ельцин — способна ли выбранная им команда сотворить экономическое «чудо» в максимально кратчайшие сроки. Как и вся страна, он был одержим жаждой чуда. Это было естественно, ибо одно чудо свершилось только что: рухнула власть, казавшаяся незыблемой целым поколениям. А раз чудеса бывают, — они могут (и обязаны!) продолжаться. Но все, кто хоть что-то понимал в экономике, предлагали сложные меры, обещая медленное улучшение. Это было неприемлемо для Ельцина. Гайдар оказался единственным, кто обещал чудо. При этом он откровенно лгал Ельцину, уверяя его, что в результате либерализации рост цен будет умеренным и будет решена проблема товарного дефицита.
На круглом столе в «Независимой газете» бывший главный редактор этой газеты В.Третьяков так отозвался о ловкости Е.Гайдара: «Представьте, если бы Гайдар пришел к Ельцину и сказал: будем вводить реформы, и через десять лет все будет хорошо — не так, как требовал Ельцин, — успех через полгода, а через 10 лет. И будет гиперинфляция процентов 1000-2000… Если бы он так сделал, Ельцин бы тут же ударил его кулаком по голове, и Гайдар не стал бы премьер-министром. Поэтому Гайдар на всякий случай сказал: инфляция составит 50%, и к концу года все будет нормально. Я предполагаю, что Гайдар как эксперт был тогда достаточно грамотен, но не говорил правду из идеологических соображений, потому что считал, что нужен капитализм, а это зависит от Ельцина, ему надо сказать то, что он хочет услышать, а дальше пойдет, и уже ничего нельзя будет сделать». (С. Кара-Мурза. Экспертное сообщество России: генезис и состояние).
Но был еще один пикантный момент, который повлиял на выбор Ельцина. По утверждению двух московских мэров — Попова и Лужкова, соавторов статьи в «Московском Комсомольце», Ельцин, который абсолютно не знал Гайдара, назначил его премьером, поскольку «Гайдара усиленно навязывали Ельцину США, суля России десятки миллиардов помощи».
Итак, Гайдар и его команда взялись реформировать Россию. Любимая «байка» реформаторов — как они спасли страну от голода пресловутой либерализацией цен, контроль над которыми был снят одномоментно в январе 1992 года. Как отметила в одном из своих интервью Л. Пияшева, «если говорить о реформе как таковой, то выпускание цен — это как выпускание птички из клетки. Денег для этого не нужно, подготовки особой — тоже. Наполнить магазины товарами, как я уже говорила, ничего не стоило. Реформа, таким образом, не требовала никаких затрат, все это было уже прописано и подготовлено задолго до Гайдара». Всего от госконтроля было освобождено 90 % розничных и 80 % оптовых цен. Указом Ельцина от 29 января 1992 г. была либерализирована торговля – разрешено применение договорных цен на все виды товаров и услуг.
Согласно планам правительства, в 1992 г . цены не должны были повыситься более чем в 2–3 раза.. В выступлениях и интервью в январе и феврале 1992 г . Ельцин и Гайдар утверждали, что рост цен в первом квартале 1992 г . не превысит 30 %, в апреле он замедлится (до 10–12 %), а к концу года упадет до 3–4 %. Выступая 20 февраля 1992 г . по Центральному телевидению, президент повторил свои обещания: «У нас есть уникальная возможность за несколько месяцев стабилизировать экономическое положение и начать процесс оздоровления. Реальные результаты получим уже осенью 1992 г .».
Однако экономическая ситуация стала развиваться в прямо противоположном направлении. Уже в первом квартале 1992 г ., по официальным данным Госкомстата РФ, цены выросли примерно в 5–6 раз. Рост цен не удалось остановить и в течение всего 1992 г . В декабре 1992 г . потребительские цены выросли по сравнению с декабрем 1991 г. в 26 раз, а по сравнению с декабрем 1990 г . – почти в 70 раз. Этот стремительный рост цен привел к обесцениванию всех доходов населения: заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и других выплат.
Галопирующая инфляция продолжилась в 1993 году, когда цены выросли еще в 9 раз. Но практически сразу же в январе 1992 года, как по мановению волшебной палочки, прилавки магазинов были заполнены продуктами. Сбылась мечта обывателя о товарном изобилии — он мог любоваться давно им невиданным ассортиментом, любоваться и… облизываться — подавлящему большинству граждан страны, появившиеся из эшелонов на подъездных путях, складов и просто из под прилавков товары, были не по карману. Уверенно смотрели в будущее немногие счастливчики, которым повезло устроиться в инофирму или СП, где им платили в месяц долларов двести (российские частные фирмы доверием не пользовались). А зарплата обычного специалиста, хорошо жившего при СССР, стала эквивалентна нескольким долларам. При этом пара ботинок стоила около 50 долларов . У тех, кто начал заниматься предпринимательством, деньги были, но с ними тоже была беда: они стремительно обесценивались. В начале года за доллар давали около 30 руб., летом — 35–37 руб., а в ноябре за неделю курс обрушился с 40 до 80 руб. Дальше обвал стал ежемесячной рутиной. В наиболее тяжелом положении оказались пенсионеры. Когда в 1992 году разрешили уличную торговлю, то, как по команде, вся страна ринулась на улицы — торговать. У станций метро и в подземных переходах стояли десятки продавцов, в основном бабулек – пенсионерок, продававших все – от рухляди из домашних кладовок до дефицитного импорта. Но основная торговля все больше концентрировалась в ларьках, или, как их еще называли в «комках». Они росли как грибы – железные коробы с узкой амбразурой и окном за решеткой. Из таких ларьков состояли появившиеся многочисленные оптовые рынки. Основной ассортимент товаров – спиртное крайне низкого качества, «сникерсы», «марсы», импортные сигареты. Можно было приобрести там и тушенку, макароны, подозрительный ароматизированный чай. Страна инженеров, ученых и космонавтов превратилась в сборище торгашей
«Серьезными» вещами торговали лишь единицы. Одним из самых «серьезных» товаров стали «Сникерсы». Это был бум. Самые находчивые сколачивали немалое состояние поездками на «Марс». На завод в Голландии ежедневно отправлялись фуры за шоколадными батончиками. Для закупки брался кредит под сумасшедшие проценты (десятки, если не сотни процентов в месяц, банки их выдавали с удовольствием), и за неделю партия распродавалась с такой прибылью, которая с лихвой перекрывала и кредит, и проценты.
Галопирующая инфляция привела к крайне негативным последствиям как для экономики в целом, так и для отдельных граждан. Чтобы сбалансировать денежную массу с товарной, нужно было существенное дополнительное введение в обращение денежных средств, увеличение оборотных средств предприятий. Однако для сдерживания галопирующего роста цен Гайдар стал проводить дефляционную финансовую политику — изъятие денег из обращения: их печатали (одной рукой — председатель Центробанка Геращенко) и изымали (другой рукой — Гайдар) одновременно. Геращенко давал кредиты предприятиям для осуществления ими хозяйственной деятельности, а Гайдар с помощью роста налогов, сокращения бюджетных расходов, дорогого кредита, попыток ограничения роста зарплаты и пр. изымал деньги из обращения. За счет инфляционной составляющей росли цены, а за счет дефляционной — усиливался спад, экономика стала опускаться в большой экономический кризис: предприятиям не хватало денег для нормального воспроизводства, покупки оборудования, выплаты зарплат. И в результате проведенной таким образом ценовой либерализации полностью обесценились оборотные фонды всех предприятий. Общая денежная масса уменьшилась в России за 1990-е годы в два раза по сравнению с объемом, необходимым для поддержания сбалансированного равновесия. Почти каждое третье российское предприятие использовало при расчетах с другими предприятиями бартерные операции. В ряде отраслей, в частности в металлургической промышленности, до 80 % идущего на внутреннее потребление металла реализовывалось путем натурального обмена со смежниками и поставщиками угля, электроэнергии, материалов. Резко усилилась натурализация сельского хозяйства. О падении роли денежно-рыночных отношений можно было судить и по небывалому по своим масштабам процессу невыплаты заработной платы наемным работникам. Повсеместным явлением стало «обнатуривание» зарплаты – ее выплачивали продуктами или готовыми изделиями предприятий. Для того чтобы получить «живые» деньги, работники предприятий или члены их семей вынуждены были заниматься сбытом этих товаров
Особенно драматично развивалась ситуация на предприятиях военно-промышленного комплекса, в структуре которого к началу 1998 г . было 1700 предприятий и трудилось более 2 миллионов человек – рабочих, инженеров, ученых высочайшего класса. Предполагалось, что именно эти предприятия, обладавшие высокими технологиями и современным оборудованием, обеспечат прорыв отечественной промышленности на мировой рынок. Однако у государства не оказалось средств ни на оплату уже произведенной по госзаказу продукции, ни на проведение конверсии. Хотя к 1998 г . соотношение военной и гражданской продукции в объемах производства предприятий «оборонки» составляло 20 : 80, накопилась гигантская задолженность государства по оборонному госзаказу, уже выполненному военными предприятиями. Это ставило их на грань банкротства. С 1997 г . государство фактически прекратило финансирование авиационной, радиоэлектронной и других отраслей военно-промышленного комплекса.
Гайдар, когда стало ясно, что у правительства нет денег в результате хаоса, возникшего в результате либерализации цен, как великий комбинатор, заявил, что правительство не отменяет гособоронзаказ, а просто не оплатит 70% его стоимости. Это решение было отменено, лишь когда в «горячих точках» начали всплывать автоматы заводского производства, но без номеров. Многие предприятия, не получившие кредитов, обанкротились или закрылись. В Москве из более чем тысячи предприятий, существовавших до начала реформ, сохранилось к концу 90-х годов лишь несколько десятков. Среди исчезнувших оказались и бывшие флагманы советской промышленности, такие, как крупнейший в Союзе станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе, завод «Калибр» и другие, в помещениях которых разместились многочисленные магазины, салоны, бутики и конторы различных частных фирм.
А отдельные граждане в результате галопирующей инфляции в мгновение ока лишились своих сбережений. На 1 января 1992 г . вклады на счетах сбербанков составляли 250 миллиардов рублей. При этом правительство не предусмотрело никаких вариантов компенсации обесцененных личных сбережений граждан, так как не ожидало таких гигантских масштабов роста цен. Газете «Известия» Гайдар прямо заявлял, что правительство
не сможет выполнить свои прежние обязательства перед населением – ни по целевым вкладам на приобретение легковых автомобилей, ни по чекам «Урожай-90», ни по обычным сбережениям граждан, которые правительство не будет индексировать. Потребительские цены к концу 1992 г . (в сравнении с 1990г.) выросли, только по официальным данным, в 70 раз, а к концу 1993 г . – в 600–650 раз. Это означало, что у среднего вкладчика из каждой тысячи рублей сбережений осталось сначала 15 рублей, а затем 15–20 копеек. То же происходило со сбережениями, хранившимися у граждан на руках. По этому поводу перестроечные СМИ не проливали слез о грабеже стариков, которых лишили денег, собранных на собственные похороны, как это было еще совсем недавно, во время обмена денег при последнем советском правительстве Павлова.
В целом либерализация цен и сопровождающие ее невыплаты заработной платы и закрытие предприятий привели к стремительному обнищанию преобладающей части российского населения. В документальном фильме «Доктрина шока», поставленном по материалам одноименной книги канадской исследовательницы Н. Клайн, численность нищих в России в 90-е годы оценивалась в 72% населения. Если считать базовым критерием нищеты недоедание вследствие отсутствия денег, то эта оценка для середины 90-х годов вполне реалистична.
Индекс реальных доходов работников материальной сферы составил в середине 1992 г . (июнь) по сравнению с ноябрем 1991 г . всего 56,3 %, а доходов пенсионеров – 44,6 %. Особо следует отметить рост стоимости услуг. Плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях увеличилась в 32 раза; услуги здравоохранения подорожали в 20 раз; бытовые услуги – в 19 раз; оплата коммунальных услуг выросла в 12 раз; транспортные тарифы увеличились в 12–23 раза; услуги связи подорожали в 14–20 раз.
О неподготовленности власти к организации каких бы то ни было социально-защитных мер по отношению к стремительно нищавшему населению свидетельствовала ситуация с введением в 1992 г . нового порога бедности, так называемого прожиточного минимума на период кризисного состояния.
В марте 1992 г . был установлен минимальный потребительский бюджет. Он включал уже не 300 наименований продуктов, товаров и услуг, а всего 19 наименований продуктов питания. Причем по ряду позиций нормы устанавливались намного ниже прежних. Так, по мясу была определена норма, которая оказалась в два раза меньшей, чем медицинская норма, установленная ВОЗ. Из минимального потребительского бюджета 70 % должно было уходить на приобретение продуктов, а оставшаяся сумма – на уплату налогов и другие обязательные платежи (квартплата, электроэнергия, телефон), а также на приобретение непродовольственных товаров, включая лекарства и услуги. В новом минимальном потребительском бюджете вообще не предусматривалось обновление гардероба, замена мебели, бытовой техники и т. д., так как власти рассчитывали, что кризисный период будет коротким (не более года). Несмотря на «обновленный» порог бедности, за его чертой, по официальным данным, в середине 1992 г . оказалось около 50 миллионов человек (35 % населения России).
Впрочем, реформаторы из-за этого не переживали. В беседе со своим заместителем ближайший сподвижник Гайдара А. Чубайс, ставший главным действующим лицом на следующем этапе либеральных реформ, сказал: «что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом — новые вырастут».
Тем временем народ, как водится, заливал неприятности спиртным. Весь 1992 год прошел под знаком двух алкогольных брендов — ликера «Амаретто» и спирта «Рояль». Это были хиты сезона. В 1992 году алкаши на улицах распивали «Амаретто» из горла — кто-то наладил массовые поставки (говорят, подделки из Польши). Вскоре появилась и другая новинка — литровые бутылки спирта «Рояль». Эффект превзошел все ожидания, однако вскоре пошли сообщения о несчастных случаях с поклонниками «Рояля». Возможно, они неправильно его пили, может, наливали сначала воду, а потом спирт, а может, вода была некачественная… А может, кто-то стал подделывать «благородный» голландский продукт. Забегая вперед, стоит отметить примечательный факт: на среднюю пенсию 1995 года, можно было купить в 5 раз меньше хлеба, в 4 раза меньше дешевой колбасы, но зато в 2 раза больше бутылок водки, чем в 1985 году. Водка играла роль наркотика, снижая уровень социального напряжения в обществе и являясь эффективной формой эскапизма — ухода от не внушавшей оптимизма действительности. Другой формой эскапизма стало массовое увлечение различными религиозными и не очень чудесами. Народ просто «на минуточку» тронулся умом – верил чудесам Кашпировского и Чумака, (злые языки их прозвали Кошмаровский и Чувак), сайентологам и кришнаитам, ходившим толпами по Москве в своих желтых балахонах с бубнами и пением гимнов. В уже упоминавшейся книге «Герои 90-х. Люди и деньги» ее авторы так описывают массовое помешательство населения в эти годы
Вообще 1990-е были прекрасным временем для кликуш, ясновидящих, астрологов и прочих заполошных, расплодившихся в питательной среде перемен. Народ заряжал воду перед телевизором под диктовку бывшего журналиста Алана Чумака или стоял в очередях в газетные киоски, где продавался свежий номер «Вечерней Москвы», также заряженный этим великим магом. Астрологи Тамара и Павел Глоба воспевали вступление в эпоху Водолея, в которой России должно неслыханно подфартить. Анатолий Кашпировский продолжал избавлять народ от энуреза, а его сеансы групповой психотерапии довели до того, что его выдвинули в депутаты Госдумы от ЛДПР и даже избрали, на что он ответил по факсу из Америки, что не желает быть депутатом от ЛДПР, поскольку Жириновский — расист и разжигатель войны.
Но и без него было, кому проводить групповую психотерапию: еще одна бывшая журналистка и депутат, жена бывшего лектора общества «Знание» Марина Цвигун-Мамонова, принявшая титул «Мессия Эпохи Водолея и Матерь Мира Мария Дэви Христос», создала «Великое белое братство ЮСМАЛОС». Отделения братства работали почти во всех городах бывшего СССР. При подготовке к Страшному суду, который был намечен на ближайшее время и должен был увенчаться коллективным самосожжением, Матерь Мира вместе с братией была арестована и осуждена на четыре года.
Первая половина 1990-х также ознаменовалась нашествием в Россию представителей самых разных сект и псевдорелигиозных течений, причем многие из них пользовались поддержкой на самом верху.
В начале 1992 года в России появилась японская секта «Аум синрикё». По расчетам «Аум синрикё», в 1997 году должен был наступить конец света. Спастись собирались только последователи секты. В прессе неоднократно сообщалось о ее тесных контактах с представителями российского политического истеблишмента.. В России «Аум синрикё» имела огромное число последователей. К 1995 году, когда ее деятельность запретили, в российском отделении секты насчитывалось, по некоторым данным, в восемь раз больше последователей, чем в Японии.
Религиозные секты, частные оккультные конторы стали процветающим бизнесом. И почти каждый пятый россиянин обращался к ним, теряя при этом немалые деньги. Чемпионами по сбору пожертвований были мунисты. Создатель секты кореец Мун Сонмён учил, что второе пришествие Христа уже состоялось, Христос — сам Мун, вокруг которого и должно объединиться человечество. Приблизительно в секте состояло 2–3 млн. человек. В отличие от прочих сект, обвиняемых в негласном выкачивании денег из своих последователей, мунисты не делали секрета из своей заинтересованности в деньгах: чтобы объединить жителей планеты вокруг Муна, утверждали они, необходимы огромные средства. Для достижения их целей членам секты разрешено обманывать общественность. Этим, кстати, объяснялось и огромное число созданных Муном организаций, формально не имеющих отношения к секте (Международная женская ассоциация, Ассоциация профессоров за мир во всем мире и Международный фонд образования). Деятельность секты в России началась в 1990 году после встречи Муна с М. Горбачевым.
Не сидела сложа руки и секта «Дети бога». Основатель секты Дэвид Берг учил, что Бог познается через плотскую любовь. После появления последователей на всех континентах планеты Берг начал выпускать теологические иллюстрированные памфлеты, которые были сочтены откровенно порнографическими в некоторых странах. После громких судебных процессов, на которых сам Берг и его последователи обвинялись в педофилии, за деятельностью общин секты во многих странах был установлен гласный полицейский надзор. В России секта называлась Союз независимых христианских миссионерских общин.
В 1989 году был создан Богородичный центр (Община Церкви Божией Матери), едва ли не единственная чисто российская секта. В основе вероучения лежали «откровения» Божьей Матери, передающиеся через пророка, некоего Береславского (пророк епископ Иоанн). Лидеры центра встречались с Язовым (в бытность его министром обороны СССР) и Руцким. В прессе писали о встречах представителей центра с Наиной Ельциной и Владимиром Жириновским.
С 1990 года в России активно действовали кришнаиты. Международное общество сознания Кришны было образовано в США и мгновенно добилось популярности по обе стороны Атлантики. Активизировались мормоны, свидетели Иеговы и пр.
Но самой мощной и разрушительной силой стали сайентологи — сайентологическая церковь, основателю которой, Рону Хаббарду, приписываются слова о том, что лучший способ заработать деньги — создать свою религию. В секте нет практически ничего от религии, кроме безусловной веры в мудрое учение «командора» Хаббарда. На протяжении своей истории секта много раз оказывалась в центре внимания из-за скандальных обвинений в неуплате налогов, жестоком обращении с отступниками и пр. В России сайентологи действовали не только под своим официальным названием, но и через созданные ею организации — Нарконон, Хаббард-колледж, Московский центр дианетики и т. д. Так, Центр Хаббарда, занимавший двухэтажное здание детского сада недалеко от метро «ВДНХ», напоминал офис фирмы, распространяющей гербалайф. Те же горящие глаза людей, обладающих незаурядной силой убеждения, и очки, которые внештатные сотрудники зарабатывают вместо денег на продаже книг и привлечении новых адептов. Этими очками люди расплачиваются за посещение очередного курса профподготовки, после которого можно стать «штатным» сайентологом. А в холле центра за стеклом и золоченой цепью был сооружен «кабинет Хаббарда», напоминающий музейные кабинеты Ленина: кожаное кресло, массивный стол из дерева ценной породы, бронзовые письменные приборы, шкаф с сочинениями отца сайентологии. «Мы не считаем Хаббарда своим богом, — спешили заверить посетителей сотрудники центра, — он для нас некий символ. Кроме того, это традиция: при жизни Рон Хаббард любил разъезжать по разным центрам сайентологии, и его всегда ждали, зная, что он любит на досуге поработать». (Правда, сам Хаббард считал себя не богом, а сатаной, особенно в последние годы жизни, находясь в сумасшедшем доме.) Если членами других тоталитарных сект, как правило, становились люди с неустойчивой психикой и подростки, которых легко завербовать, то сайентологи использовали другую тактику, привлекая адептов курсами, которые якобы помогали выходить из сложных ситуаций и на которых учили правильно себя вести и общаться. Клиенты, пройдя тесты, узнавали, что они далеко не гении, но могут ими стать. А в этом им поможет сайентология.
Успешно завершив либерализацию цен, в апреле 1992-го Гайдар, бывший тогда первым заместителем председателя правительства РФ, отправился в Вашингтон, где представил проект реформ и бюджета на сессии МВФ и МБРР. Ее итогом стало принятие России в члены Фонда. Как отмечает Гавриил Попов в своей книге «От и до», Борис Ельцин выбрал «Гайдара вместе с МВФ». Вдохновленные перспективой получения займов МВФ, российские либералы немедленно приступили к следующему этапу реформ -приватизации «всего и вся», «Вся» это не оговорка — чтобы отвлечь людей от осознания того, что с ними делают, в 1991 году начали массовую практически бесплатную приватизацию государственных квартир.
В июле 1991 года был издан Акт о приватизации жилья в России, в соответствии с которым граждане и их семьи, живущие в государственных квартирах, могли по желанию приобрести по чисто символическим ценам законные права собственности, включая право продавать, отдавать внаем или завещать свои квартиры.
Первоначально население не решалось приобретать квартиры в собственность, поскольку опасалось высоких налогов на недвижимость. Но уже к концу 1992 года было приватизировано 2,8 млн. квартир, а в 1993 году — еще 5,8 млн. Всего к началу 1995 года в стране было приобретено в собственность почти 11 млн. квартир. Наивысшего пика этот процесс достиг в марте 1993 года, когда за месяц было приватизировано 729 тыс. квартир, а потом это количество стало постепенно снижаться, оставаясь в пределах 150 тыс. в месяц. (Тихомирова Г. П. Экономическая история России. Москва, 2009).
Одновременно в этот период проходила и «малая» приватизация: продавались магазины, столовые, кафе, рестораны, ателье, парикмахерские, таксопарки, бани, кинотеатры и другие подобные объекты. Привилегии в приобретении собственности были предоставлены трудовым коллективам этих предприятий. Была сохранена возможность коллективного выкупа мелких предприятий, которой воспользовались около 70 % коллективов торговли, общественного питания и сферы услуг. Однако большинство из них, по данным экспертов, выступили лишь в роли подставных лиц для сторонних покупателей или для собственных директоров. Всего в 1992–1994 гг . было приватизировано около 70% предприятий торговли и общепита и 78% объектов бытового обслуживания.
Однако наиболее сложным и болезненным оказался процесс «большой» приватизации — крупных и средних производственных предприятий.
Предлагалось три подхода к решению этой задачи: 1) безвозмездная передача госпредприятий в собственность их работникам; 2) безвозмездная раздача государственного имущества всем гражданам; 3) продажа государственной собственности гражданам и юридическим лицам. С самого начала были очевидны и недостатки всех этих способов. Скажем, бесплатно раздать капитал и землю предприятиям — значит поставить их в заведомо неравное положение (к примеру, в электроэнергетике на каждого работающего приходилось в то время в 55 раз больше производственных основных фондов, чем в швейной промышленности). Продать предприятия по рыночной цене невозможно из-за отсутствия у населения необходимых накоплений (известной программой “500 дней” потенциальный спрос на собственность оценивался в 100-150 млрд, руб., а стоимость ее — в 2 трлн. руб.). А бесплатная раздача госимущсства вообще не имеет ничего общего с рынком, образует простое продолжение “распределительной экономики”. И в любом из этих вариантов, как отметил О. Пчелинцев, «игнорируется принцип уважения чужой (в данном случае общественной) собственности, образующий sine qua non рыночных отношений. (О. Пчелинцев, Приватизация: доктрина, реальность, альтернатива. «Мир России», 1999, №3. стр.35)
Однако, как это будет показано ниже, отнюдь не экономические аспекты приватизации волновали сотрудников созданного нового министерства -Комитета по управлению государственным имуществом (ГКИ), во главе которого Гайдар рекомендовал Ельцину назначить А. Чубайса, за несколько лет сделавшего стремительную карьеру от безвестного преподавателя ленинградского вуза до ближайшего сподвижника Е. Гайдара.
В науке Чубайс не оставил особого следа — о его исследованиях в области экономики НИОКР знали только его ближайшие коллеги. Как гласит легенда, в своем институте он организовал на полулегальной основе под стандартной вывеской совета молодых специалистов подпольный кружок экономистов. Это, правда, сильно напоминает корейский эпос о юном Ким Ир Сене, который, едва научившись ходить, уже организовывал партизанскую борьбу с японскими оккупантами. На самом деле «диссидентство» выходцев из семьи Чубайсов больше связывается с именем брата вице-премьера — Игоря, который во второй половине 1980-х и начале 1990-х был довольно заметной (но отнюдь не влиятельной) фигурой демократического движения, находясь на его самом правом фланге среди радикальных почвенников и монархистов.
Тем не менее, благодаря своей общественной активности А. Чубайс был вовремя замечен, и в 1990 году ему предложили непосредственно заняться реформами. На муниципальном уровне, конечно. Докторская диссертация осталась незаконченной. Чубайс стал первым заместителем последнего председателя Ленгорисполкома Александра Щелканова. Впрочем, на этом посту он себя толком не проявил. После того как Собчак сменил депутатское кресло на кресло мэра, Чубайс переметнулся к нему, став во главе комитета мэрии по экономической реформе. В мэрию он пришел с модной по тем временам идеей — сделать Ленинград свободной экономической зоной. И примерно полгода идея «зоны» витала над городом. Серьезных реальных шагов сделано так и не было, да и не могло быть по определению, как это было показано выше на примере Сахалина. Неизвестно, куда бы вывела кривая попавшего в немилость к Собчаку петербургского экономиста, если бы в это время президент не подписал указ о назначении премьер-министром Егора Гайдара.
С Гайдаром Чубайс был знаком еще с 1985 года, когда в пансионате «Змеиная горка» под Ленинградом прошел семинар, посвященный обсуждению опыта югославской реформы и проблем венгерской экономики. Этот семинар посетил и Егор Гайдар. Сам Чубайс в одном из интервью местной прессе назвал это событие историческим. Оно не забылось: вскоре Чубайса пригласили работать в правительство.
Наряду с рядом своих радикальных единомышленников, экономистов -рыночников из Ленинграда и Москвы, с которыми Чубайс в 80-е годы участвовал в различных неформальных клубах, семинарах и дискуссиях, он привлек к разработке программы этой части приватизации западных, в основном американских экспертов. Так, начальником отдела иностранной технической помощи и экспертизы и заместителем председателя комитета в экспертной комиссии (т. е. самого А.Б. Чубайса) был назначен юрист Джонатан Хей — гражданин США, сотрудник ЦРУ, привлекли также Дж Сакса и А. Шлейфера. Что касается последнего, то этот гарвардский профессор, выходец из СССР, эмигрировавший в США в 1976 году, в 2005 году, уже в Америке, был обвинен в использовании служебного положения в целях личной наживы (так называемый «конфликт интересов» по американскому законодательству), но суд признал его виновность лишь в «нарушении контракта» и обязал выплатить многомиллионный штраф.
В целом в составе Госкомимущества РФ работало почти 200 инностранных экспертов Многие из них занимали не только штатные должности советников, но и должности начальников секторов и отделов. Их работа не афишировалась, но влияние было очень значительным. Американские советники совместно с Гайдаром, Чубайсом и их коллегами вырабатывали политические меры, которые потом вписывались прямо в президентские указы. Зарубежных экспертов приглашали не в силу того, что не хватало собственных квалифицированных «неолиберальных» кадров. Они были прямыми проводниками реализации ключевых интересов Запада в России, о чем откровенно написано в мемуарах помощника президента США Б. Клинтона по российским делам С. Телботта, который отметил, что американская администрация считала Президента РФ Ельцина надежным проводником своих интересов.
Иностранные эксперты устремились в Россию «веселою гурьбой» для апробирования своих теоретических концепций и использования разрекламированного опыта реформ в странах Южной Америки. Забегая вперед, отметим, что наиболее известный из них, Джерри Сакс, уже в скором времени вынужден был признать неадекватность предложенных им рецептов российским условиям. Отвечая на вопрос о причинах неудачи либеральных реформ в России, он ответил: «когда мы приступали к реформам, мы чувствовали себя врачами, которых пригласили к постели больного. Но когда мы положили больного на операционный стол и вскрыли его, мы обнаружили, что у него совершенно иное анатомическое устройство и внутренние органы, которые мы в нашем институте не изучали». Продолжая на том же медицинском жаргоне, можно сказать, что Дж. Сакс оставил больного (экономику России), так его и не вылечив. ( смотри Приложение статья «Россия в кризисном интерьере»). Тем не менее, незнание российских реалий не сказалось на размере заработков Д. Сакса и остальных западных экспертов. Осенью 1992 года появилось распоряжение главы Госкомимущества под названием «Об участии консультационных фирм и индивидуальных консультантов в проведении работ по приватизации государственных и муниципальных предприятий». Именно оно открыло дорогу в ГКИ западным консультантам по приватизации.
Однако все это осталось бы на бумаге, если бы не западная же финансовая помощь, благодаря которой и оплачивались услуги как иностранных консультантов, так и российских специалистов. В частности немалая толика средств из выделенного Всемирным банком России займа в $ 90 млн. направлялась на обучение работников Госкомимущества. Этим помощь Запада не ограничилась — МБРР предоставил целевой кредит для проведения российских реформ в размере 3 млрд. долларов, ключевой структурой в освоении которого стал государственный фонд «Российский центр приватизации», работавший род эгидой Госкомимущества. Последнее и стало фактическим контролером, а также одним из бенефициариев предоставленного МБРР кредита.
Впрочем, высокая квалификация специалистов для проведения приватизации в ее российском варианте и не требовалась, поскольку ее стратегической целью являлась не модернизация экономики и повышение конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках, о чем твердили российские либералы за два-три года до начала реформ, а создание слоя собственников, на поддержку которых могло бы рассчитывать новое российское руководство. Мнением народа по этому поводу не интересовались, но, начиная приватизацию, россиянам объяснили, что приватизированные предприятия будут работать гораздо лучше. На них должны прийти настоящие хозяева, которые все увеличат, поднимут, усовершенствуют, достигнут и, (самое главное), получат.
Через много лет, в 2001 году, в одном из своих интервью (на борту самолета) А. Чубайс позволил себе быть цинично откровенным. Отвечая на вопросы, он заявил, что «приватизация в России до 97 года вообще не была экономическим процессом. Она решала совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда, а уж тем более на Западе. Она решала главную задачу — остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили её полностью. Мы решили её с того момента, когда на выборах в 96-ом году Зюганов отказался от лозунга «национализация частной собственности». Отказался не потому, что он полюбил частную собственность, а потому что он понимал, что если хочешь власть в этой стране получить, безумие отнимать назад. У тебя самого отнимут так, что мало не покажется. Этим самым мы заставили его, независимо от его желания, играть по нашим правилам, ровно то, чего и надо было добиться».
«…Не Западу судить! Мало что понимает в этом Запад. Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи, с разной ценой. Мало кто на Западе понимает, что такое коммунизм на самом деле и какую цену заплатила наша страна за это.
Что такое приватизация для нормального западного профессора, для какого-нибудь Джеффри Сакса? Который пять раз уже менял позицию по этому поводу, и докатился до того, что надо отменить приватизацию и начать всё заново. Для него, в соответствии с западными учебниками, это классический экономический процесс, в ходе которого оптимизируется затраты на то, чтобы в максимальной степени эффективно разместить активы переданные государством в частные руки. А мы знали, что каждый проданный завод — это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого ли, дёшево, бесплатно, с приплатой — двадцатый вопрос, двадцатый. А первый вопрос один: каждый появившийся частный собственник в России — это необратимость. Это необратимость. Точно так же, как 1 сентября 1992 года первым выданным ваучером мы выхватили буквально из рук у красных решение об остановке приватизации в России, точно также каждым следующим шагом мы двигались ровно в том же самом направлении».
Нападки Чубайса на своего бывшего коллегу Дж. Сакса были своего рода реакцией на его интервью, опубликованное годом ранее, в котором он однозначно осудил методы проведения приватизации в России. Оценивая результаты реформ, в которых принимал непосредственное участие, Дж. Сакс отметил, что «главное, что подвело нас, это колоссальный разрыв между риторикой реформаторов и их реальными действиями… И, как мне кажется, российское руководство превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме: они сочли, что дело государства — служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно больше денег и поскорее. Это не шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая своей целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей».
Однако, бравируя своим цинизмом, еще через десять лет, в 2011 году в телевизионной передаче первого российского канала А.Чубайс заявил: «мы отдали собственность тем, кто был к ней ближе: бандиты, секретари обкомов, директора заводов…»
Какой контраст между этими признаниями А. Чубайса и демагогическими обращениями Ельцина к народу в начале приватизации: «нам нужны миллионы собственников, а не горстка миллионеров. В этой экономике у всех будут равные возможности…»
Во всех высказываниях Чубайса обращает на себя внимание два момента: ненависть к коммунизму и патологический страх при мысли, что «большевики» могут вернуться. Этот страх российских либералов предопределил характерные черты и специфику приватизации в стране. Нигде в мире аналогичные реформы не проводились в столь сжатые сроки, как это произошло в России. И еще одно примечательное высказывание по этому вопросу в статье о приватизации в России: «на выбор модели приватизации повлияло ощущение «окна возможностей», краткости исторического периода, отпущенного на институциональные преобразования. Стремление реформаторов, пришедших к власти после крушения коммунистического режима, к быстрой массовой приватизации было связано с желанием достичь точки невозврата к социализму. Возникла невиданная ранее в истории проблема: как приватизировать «сразу все»? (В. Берман, П. Филлипов )
Спешка реформаторов в первую очередь отразилась на формировании законодательной базы приватизации в России. Верховный Совет принял в 1991 году два закона о приватизации, которые должны были стать основой реформ. Но затем последовали указы Ельцина, в которых практически игнорировались принятые Верховным Советом законы. В пяти указах Ельцина о приватизации, опубликованных в 1991-1993 годах, предусматрировалась принципиально иная схема разгосударствления экономики. ГКИ в своей деятельности пошла еще дальше. Реальная практика приватизации мало учитывала государственные программы приватизации. Она велась не в соответствии с программами, а по нормативным актам Госкомимущества. Кто и по какой цене приобретал государственную собственность, определялось исключительно распоряжениями, постановлениями и инструкциями Госкомимущества. При этом нормативные акты этого ведомства далеко не всегда, как отмечали эксперты, направлялись даже на регистрацию в Министерство юстиции России. Как отметила Н. Разуваева, «есть все основания утверждать, что компания управленцев, собранная в ГКИ, фактически «приватизировала» принятие многих решений по приватизации и монопольно проводила в жизнь «свою» концепцию разгосударствления экономики. Ни А. Чубайс, ни его коллеги в руководстве Госкомимущества не объясняли широкой общественности суть этой концепции, не обсуждали ее среди экономистов. Ход проведения приватизации практически не обсуждался и на заседаниях правительства РФ, а некоторые решения Госкомимущества прямо противоречили достигнутым в правительстве договоренностям. Приватизация осуществлялась без какого-либо контроля со стороны общества, высшей представительной власти, независимых экспертных общественных организаций, специалистов в области экономики или права, средств массовой информации, трудовых коллективов, руководителей предприятий и т. д.»
Произвол руководства ГКИ при ином высшем руководстве вполне мог рассматриваться как уголовное преступление, более того, как государственная измена. Например, ГКИ попросту проигнорировало указ Ельцина, где был назван список оборонных предприятий, приватизация которых была запрещена. Тем не менее, приватизация предприятий оборонного комплекса осуществлялась по планам распродаж, которые Госкомимущество утвердило раньше. Реальная приватизация не учитывала ни указ президента, ни «запретные» списки правительства. Почти сразу после их появления Госкомимущество раскрепило пакеты акций из федеральной собственности по 78 оборонным предприятиям, означенным в списках, а еще по 22 – уменьшило их в размерах. Как отметил академик С. Глазьев, в ходе приватизации почему-то американские компании, близкие к американским спецслужбам, благодаря своим советникам, сидевшим в Росимуществе, ухитрились скупить именно те предприятия авиационной промышленности, которые выпускали критически значимые комплектующие… И дальше эти предприятия начали закрываться… Это просто блокирование нашего оборонного потенциала.
Один из ведущих сотрудников команды Чубайса, А.Д.Радыгин, вынужден был признать, что “в силу относительной неопределенности, противоречивости законодательства, а также периодического его изменения и создания различных прецедентов высшими органами власти России, любая из противоборствующих сторон может с равным успехом доказать свои права и полномочия ”, (А.Д.Радыгин. Реформа собственности в России: на пути из прошлого в будущее. М., 1994. с.64). Еще интереснее наблюдения заместителя председателя Счетной палаты Российской Федерации Ю..Болдырева. Он отметил, что, хотя “большинство проверявшихся Счетной палатой крупных приватизационных сделок совершено… с явными нарушениями закона”, никаких действий по этим нарушениям не предпринимается (Комсомольская правда. 06. 03. 1998.). Всем ясно, продолжал Ю.Болдырев, что при любой смене власти значительная часть нынешних приватизационных сделок будет расторгнута. И речь идет не о какой-то экстремистской власти, а о любой власти, которая просто начнет следовать закону.
Усилилось давление на процесс приватизации и со стороны региональных элит. Окрепшие и получившие серьезные властные полномочия представители региональной элиты выступали против единых норм, правил и темпов приватизации. Каждый региональный руководитель стремился осуществлять приватизацию в своем регионе в соответствии с выгодной для него схемой. «Парад суверенитетов» в политике привел к «параду суверенитетов» в сфере приватизации( С. Веселовский, Н. Лапина, выше цит. соч., с.28)
Позиции региональных властей по вопросам приватизации существенно расходились. Одни руководители выступили против приватизации и всячески тормозили ее проведение. Первым регионом, где началось региональное сопротивление, стал Челябинск. Здесь местным советом было принято постановление о приостановке приватизации.
Решение областного совета было законным и отменить его правительство не могло. Для решения конфликта руководители ГКИ прибыли в Челябинск,
где были проведены встречи с местным руководством и трудовыми коллективами. В результате постановление областного совета было отменено. В Томске областной совет разработал собственную концепцию приватизации, суть которой сводилась к тому, что приватизацию проводить не следует. Схожие конфликтные ситуации возникли в Брянске, Новосибирске, Ульяновске, Воронеже, Архангельске. С каждым регионом представителям правительства приходилось договариваться в отдельности. Сложнее всего федеральной власти было вести переговоры с республиками. В Калмыкии президент К. Илюмжинов запретил приватизацию. Он планировал создать в республике единую корпорацию «Калмыкия», передать в нее всю государственную собственность республики и лично корпорацией руководить. Лишь после «очень жесткой» беседы в Москве калмыкский президент от своих инициатив отказался. На первых порах против приватизации выступил Татарстан, но некоторое время спустя в республике приватизация все же началась. А в Башкирии и Якутии этот процесс был заморожен на длительное время.
Тем не менее, к середине 90-х годов в большинстве субъектов РФ сформировался «пул» региональных собственников, близких к администрации, а региональная власть взяла под контроль наиболее доходные сферы местного бизнеса (16, с. 167). В большинстве регионов приватизируемая собственность переходила к фаворитам региональных властей, а губернаторы и местные олигархи делали все возможное, чтобы не пускать в регион «чужих» собственников.
«Несостыковки», мягко говоря, между законами Верховного совета, указами президента и инструкциями ГКИ и его подразделений в регионах использовали в своих интересах директора, которые выискивали любые возможности для сохранения своего контроля над предприятиями.
Еще одной группой, быстро набиравшей силу, стали уголовные авторитеты, для которых закон был не писан — они жили «по понятиям» криминального мира. Преступные группировки приняли активное участие в приватизации. На первых этапах разгосударствления около 35% капитала и 80% «голосующих» акций перешли в руки криминального мира(27, с 106).
ОПГ стали основной ударной силой рейдерства — пректики так называемого «недружественного» захвата имущества, земельных участков и прав собственности, которое осуществляется с использованием недостаточности правовой базы и с коррупционным использованием государственных, административных и силовых ресурсов. «Кто не в состоянии выдержать борьбы за свои активы, тот вынужден покинуть поле боя и отдать их более энергичным», — объяснял значение рейдерства Альфред Кох, ставший третьим руководителем ГКИ в 90-е годы. Тогда он продавал «наиболее энергичным» государственные компании, а потом создал фирму и сам занялся «недружественными поглощениями» — термин «рейдерство» он не любит.
Из различных видов рейдерства в начале 90-х годов преобладало «черное рейдерство» с использованием таких методов, как мошенничество (подделка документов, фальсификация протоколов собраний акционеров, взятки регистраторам, изготовление фальшивых документов, подкуп чиновников и т.д). «так называемый ««Гринмейл», (Психологическая атака), силовой захват. банкротство, скупка акций. (размывание собственности миноритариев путем дополнительной эмиссии акций без учета прав миноритариев – квазизаконный метод).
В 1992-1993 одним из популярных приемов рейдерства было проведение совещания, на котором владельцы всего 3% акций проводили совещание и переизбирали генерального директора, а потом через суд требовали права на управление всей собственностью. К середине 90-х рейдерство стало весьма прибыльным бизнесом, прибыль достигала 1000%. Но тогда это не называлось не рейдерством, а борьбой за права акционеров.
Одной из главных причин разгула рейдерства в России была слабость законодательной базы. Как отмечают эксперты, обычно захваты осуществляют рейдеры-исполнители. Это могут быть как профессионалы, так и «дилетанты-отморозки». Исполнители – молодые люди 23-30 лет, приехавшие из провинции в крупные города. Это полностью отмороженные люди. За 1500-3000 долларов они будут жечь и убивать, — говорит эксперт. А исполнители-профессионалы, хорошо знают, как облекать абсолютно незаконные действия в квазизаконную форму. В 2000-е годы, по данным российской прессы, существовали следующие расценки на услуги, которые с готовностью предоставляют рейдерам госслужащие. Решение судьи — $50 000–100 000. Возбуждение уголовного дела — $25 000. Неофициальный запрос в Федеральную регистрационную службу — от $1000 до $5000. «Вход» на предприятие в сопровождении судебных приставов и бойцов спецназа — $100 000. «Вынос тела» частным охранным предприятием — $25 000. Депутатский запрос от имени рядового депутата Госдумы — $10 000, от имени руководителя думского комитета — $25 000. Участие в захвате «фронта», то есть крупного чина из ФСБ, МВД, прокуратуры, — от $100 000 до $1 млн. И никакого мошенничества (если, конечно, не считать таковым решение судьи).
Экономический ущерб от рейдерства, по мнению подавляющего большинства экспертов, оценить весьма сложно, потому что рейдерство часто происходит в скрытых формах Но совершенно ясно, рейдерство не занимается реальной экономикой и не направлено на решение реальных задач страны. Кроме того, рейдерство в России снижает ее инвестиционную привлекательность, т.к. это один из дополнительных рисков для инвестиций.
Вот в таком » правовом поле», а точнее в условиях правового беспредела, который некоторые российские историки тактично называют «недостаточной юридической чистотой», проходила приватизация в России. Неудивительно, что по данным МВД только за 5 месяцев 1993 г. было выявлено 2590 преступлений в сфере приватизации. Причем сами работники министерства признавали, что “данная цифра едва ли составляет 10% от того, что происходит в реальной жизни” (Аргументы и факты. 07.1993. N27)
Не менее сложной проблемой процесса приватизации было определение цены приватизируемой государственной собственности. Реформаторы считали, по утверждению П. Филиппова, что «цена приватизируемого имущества не столь важна. Тем более что легальных средств на его выкуп по ценам, близким к его восстановительной стоимости, в России не было и быть не могло. Поэтому часть государственной собственности пришлось отдать. Кто сможет на деле стать эффективным собственником, (как они надеялись), определит рынок».
Но при отсутствии в России капиталов, необходимых для выкупа предприятий, единственным вариантом их приватизации была продажа по частям в форме акций. В 1991 — 1992 годах было осуществлено по сути дела принудительное акционирование преобладающего большинства российских предприятий в ОАО (открытые акционерные общества). В названиях многих из них отражалось советское прошлое — так, можно было увидеть забавную вывеску ОАО «Су- 24», напоминавшую о том, что в недалеком прошлом это ОАО было подразделением большого государственного строительного треста.
Процесс акционирования удалось провести сравнительно быстро, поскольку в том случае, если приватизация проводилась по предложению трудового коллектива, применялся один из трех вариантов льгот его членам, каждый из которых предусматривал набор льгот для работников акционируемого предприятия. Наиболее популярным стал вариант, в рамках которого всем работникам предоставлялось право приобретения 51% обыкновенных акций. Этот вариант выбрали 75% всех акционированных предприятий. Следует отметить, что ГКИ постаралась не допустить «чрезмерного обогашения» рядовых работников — предельный размер льгот при раздаче акций или их приобретения по закрытой подписке не превышал 20 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда).
К середине 90-х годов в России было зарегистрировано 25 тысяч ОАО, не считая ЗАО, ООО, и других форм частной собственности в рыночной России.
Определение размеров уставного капитала, количества и номинальной цены акций в методике ГКИ было основано на оценке размеров остаточной стоимости предприятий. Это в корне противоречило принципу предпродажной оценки стоимости приватизируемых предприятий, установленном в законе, в соответствии с которым “определение начальной цены для продажи предприятия по конкурсу (на аукционе) или величины уставного капитала акционерного общества” должно было производиться “на основании оценки предприятия по его предполагаемой доходности (в случае его сохранения) или на основе оценки возможной выручки от распродажи его активов”. Отметим, что в условиях экономического кризиса и гипер инфляции расчеты подобного рода представлялись крайне проблематичными, впрочем, как и расчеты остаточной стоимости фондов предприятий, в которых наибольшую сложность представляли оценки износа оборудования. Но чиновников ГКИ эти проблемы не волновали, они, как уже было отмечено выше, торопились.
Регионам из центра спускались задания по приватизации, от выполнения которых зависели размеры предоставляемой им финансовой помощи. Жестко регламентировались сроки приватизации, решения о ней для объектов, приватизация которых может проводиться ГКИ, должны были подготавливаться территориальными агентствами этого ведомства всего за 3 дня. Отраслевым министерствам давалось на размышление “целых” две недели (после этого решение о приватизации обязан был принять местный руководитель ГКИ). Ну, а если “забуксует” само агентство или, не дай Бог, общую лень и нсразворотливость станут оправдывать ссылками на якобы имеющиеся разногласия, то тогда Госкомимущество России вправе было само рассмотреть возможность приватизации такого предприятия “с учетом мнения отраслевых министерств и ведомств». Предусмотрена была даже возможность недостаточной распорядительности со стороны Правительства: если оно за 10 дней (для предприятий ВПК за месяц) нс рассмотрит внесенный ГКИ проект распоряжения, то “решение о возможности приватизации и порядке ее проведения” примет в месячный срок сам ГКИ. Для сравнения — В Великобритании, приватизация в которой считается примером подготовленной приватизации, продажа одного крупного государственного предприятия занимала 6 лет. В рамках приватизационной программы планировалось продать в частные руки около 50 крупных государственных компаний. Для каждой из них квалифицированные менеджеры определили конкурентоспособность ее продукции и потребность в инвестициях для достижения нужного уровня конкурентоспособности. Путем опросов были выявлены потенциальные покупатели, которым были сделаны предложения (модель единовременного установления мажоритарного контроля). Цена компании определялась с учетом затрат на ее санацию и будущего спроса на продукцию. За первые восемь лет правительство Маргарет Тэтчер сумело приватизировать чуть более половины намеченного на общую сумму 17 млрд фунтов стерлингов.
Забегая вперед, отметим, что в России же с января по июнь 1994 года, всего за 6 месяцев, было продано 284 крупнейших предприятия.
Однако реформаторов не волновала обоснованность их подсчетов реальной стоимости приватизируемых предприятий, они были заинтересованы лишь в максимально заниженной оценке государственных активов, чтобы облегчить их последующую продажу.
После завершения в сентябре 1992 г. акционирования крупных предприятий (со стоимостью активов более 50 млн. рублей) в России начался спектакль с «раздачей слонов», то бишь так называемых ваучеров всем гражданам России
В июле 1992 г. Ельцин подписал указ и в России началась ваучерная приватизация.
Правительство РФ оценило национальное достояние страны — активы всех госпредприятий — в 4 трлн. руб. (тех еще, с Лениным). Из них 1,5 трлн. руб. (35% достояния) предназначались к бесплатной раздаче 150 млн. человек населения РФ, на каждого — 10 000 руб. одной бумажкой, (дизайн которой был заказан зарубежной фирме). Ее можно было продать, обменять на акции чекового инвестиционного фонда (ЧИФ) и затем получать от него ежегодный дивиденд, а также обменять на акции какого-то предприятия в ходе чекового аукциона. Аукцион — главный момент приватизации. Каждое акционирующееся предприятие должно было выставить на продажу не менее 29% акций за ваучеры. Граждане вольны были менять ваучеры на акции любого предприятия. Если на 29% акций, скажем, «Газпрома» будет подан один ваучер-заявка хоть ЧИФом, хоть физическим лицом, его владелец должен был получить 29% акций. Если десять заявок — каждому по 2,9% акций. И так далее.
Любой гражданин РФ мог получить, уплатив в качестве выкупа 25 рублей, в отделении Сбербанка ценную бумагу номиналом 10 000 руб. — государственный приватизационный чек, окрещенный ваучером. Считалось, что бумага эта подтверждает право на владение каждым гражданином частью национального богатства, причем все граждане получили равные «куски пирога». Но изначально в схему ваучерной приватизации было заложено очевидное жульничество — как уже отмечено выше, 35% национального достояния предназначались к бесплатной раздаче гражданам России, а обмен ваучеров на акции не превышал 29% выставленных на продажу акций предприятий.
Впрочем, для оценки стоимости этого пирога по определению не было основы, хотя бы по причине того, что один из основных компонентов национального богатства — земля- не имел рыночной стоимости. Григорий Явлинский объяснял отсутствие рациональной основы стоимости ваучера дисбалансом между количеством товаров и денежной массой в экономике РСФСР. Скептически оценил потуги определить стоимость ваучера и бывший министр экономики, сменивший пост министра на кресло президента банка «Российская финансовая корпорация», Андрей Нечаев. Он так прокомментировал ваучерную схему: «с точки зрения применявшейся модели приватизации номинал ваучера не имел никакого значения. Ваучер определял лишь право что-то купить при приватизации. Реальная его стоимость зависела от конкретной приватизационной ситуации на конкретном предприятии. Где-то на ваучер можно было получить 3 акции, а где-то — 300. В этом смысле на нем можно было написать и 1 рубль, и 100 тысяч рублей, что не изменило бы его покупательную способность ни на йоту. По-моему, идея снабдить эту ценную бумагу номиналом принадлежала Верховному совету. Чтобы придать номиналу хотя бы какую-то рациональную основу, решили привязать его к стоимости основных фондов на душу населения».
Реальная рыночная стоимость пакета акций, который можно было получить в обмен на один ваучер, колебалась в широких пределах в зависимости от компании, чьи акции приобретались в обмен на ваучер, а также от региона, где это происходило. Например, в Нижегородской области один ваучер можно было обменять в 1994 г. на 2000 акций РАО «Газпром» (их рыночная стоимость в 2008 г. составила порядка 700 тыс. рублей), в Московской области — на 700 акций Газпрома (в 2008 г. — порядка 245 тыс. рублей), а в г. Москве — на 50 акций Газпрома (17 тыс. руб. в 2008 г.). За один ваучер можно было также получить 7 акций Торгового дома «ГУМ» (менее 100 руб. в 2008 г.).
Выдача ваучеров проходила с октября 1992 до конца января 1993 года. К 31 января 1993 года их получили почти 97% российских граждан. Следует подчеркнуть, что население страны в основном «купилось» на обещанные Чубайсом две «Волги», которые владельцы ваучера смогут приобрести. Свою роль здесь сыграла целенаправленная агитация во всех средствах массовой информации, которые настойчиво выдвигали популистские лозунги такого типа: «вернуть народу собственность», сделать всех трудящихся «настоящими собственниками» и т.п. Но, получив на руки потенциальное богатство, рядовой гражданин имел очень смутное представление, что с ними делать дальше. Е. Ясин признал, что реформаторы «слишком торопились. Слишком мало времени прошло. Люди не успели понять, что происходит, что им предлагают. Говорят, что мало тратили на пропаганду. Не думаю, что так уж мало. Но за то время, что было отведено на эту невиданную по масштабам операцию, большинство людей, никогда не имевших дело с ценными бумагами, кроме советских гособлигаций, которые приобретались добровольно-принудительно, в крайнем случае, могли понять Леню Голубкова и поверить мошеннику Сергею Мавроди. Но стать квалифицированными инвесторами они не могли. Институты не вырастают со второй космической скоростью». Отметим, что одним из направлений масштабной пропаганды новых моральных ценностей рыночной экономики был показ по центральному телевидению мексиканского сериала «Богатые тоже плачут», совпавший с пиком ваучерной приватизации в 1992 году. Почти полгода граждане России могли каждый вечер сопереживать героям этого сериала, проникаясь сочувствием к проблемам богатых людей.
Тем временем одни граждане, чтобы не «заморачиваться», вкладывали их в ЧИФЫ, надеясь, что специалисты в этих фондах найдут им достойное применение. В СМИ велась широкая пропаганда этих фондов. Населению внушалось, что обмен ваучеров на акции предприятий лучше всего делать именно через ЧИФы. В целом по России их было создано 646. Само количество созданных ЧИФов исключает наличие в них минимально необходимого числа экспертов — аналитиков по только формирующемуся рынку ценных бумаг. Тем не менее, граждане начали сдавать свои ваучеры в особенно активно рекламируемые финансовые компании, такие как «Первый инвестиционный фонд», «Московская недвижимость», «Альфа-капитал», «Хопер-инвест», «Гермес», «Русский дом – Селенга», «Технический прогресс», «Торгово-финансовая корпорация Л.Е.Н.И.Н.», «Чара», «Тибет» и др. Многие из них впоследствии приобрели скандальную известность в качестве финансовых пирамид.
Другие все же рискнули вложить свои ваучеры самостоятельно. . Однако в обмене ваучеров на акции предприятий возникли серьезные сбои. Во-первых, выдача ваучеров и их обмен на акции каких-либо предприятий были разделены по времени почти на год. Во-вторых, предприятия, которые в это время начали акционирование и выпуск своих акций, старались принимать ваучеры в обмен на акции главным образом от своих рабочих и служащих. В самый разгар ваучерной приватизации руководитель Первого ваучерного фонда М. Харшан привел в «Финансовых известиях» несколько цифр: для массовых слоев населения, отдавших свои ваучеры в чековые инвестиционные фонды, был выделен весьма скромный сегмент экономики; при приватизации небольших предприятий с размером уставного капитала до 50 миллионов рублей на долю населения приходилось 95 % купленных акций; на аукционах по приватизации крупнейших предприятий страны (с уставным капиталом свыше 500 миллионов рублей) акции приобретали не рядовые граждане, а только крупные коммерческие структуры (крупным инвесторам продавалось в ходе таких аукционов до 95 % акций).
Собственно говоря, сама программа приватизации, предусматривавшая разделение продажи части государственного имущества на аукционах, а другой части на конкурсах, по определению исключила большинство граждан из круга потециальных инвесторов. «Фишка», как теперь модно говорить, заключалась в том, что предприятие продавалось на аукционе, если от покупателей не требовалось выполнения каких-либо условий. Право собственности передавалось покупателю, предложившему в ходе торгов максимальную цену. Продажа по конкурсу (коммерческому, инвестиционному) проводилась, когда от покупателей требовалось выполнение определенных условий – сохранение профиля предприятия или назначения объекта, числа рабочих мест, финансирование объектов социальной сферы, заданная сумма инвестиций и т.д. Ясно, что владельцы даже нескольких ваучеров присутствовали на конкурсах только как зрители.
На 1 июля 1994 года было введено в обращение 151,5 млн. приватизационных чеков, выведено из обращения – 148,6 млн. (в том числе собрано по закрытой подписке 26,0 млн, на чековых аукционах – 114,7 млн. иным способом – 7,9 млн.), осталось в обращении – 2,8 млн.
Но почти половина общего числа ваучеров была продана, подчас у заводских ворот, скупщикам в подземных переходах и т. д. Иногда реальная стомость ваучеров падала до стоимости двух бутылок водки.
Торговля, точнее спекуляция, ваучерами превратилась в один из доходных видов бизнеса в 1992-1994 годах. За ваучер давали сначала 40 долларов, затем 10, а потом 5, и лишь к весне 1994 года, когда большинство граждан тем или иным образом избавились от головной боли, куда пристроить свой ваучер, цена стабилизировалась на 20 долларах. Спекуляцией ваучерами занимались все частные финансовые институты — банки, страховые компании и, разумеется, ЧИФы, которые собрали более трети всех ваучеров, хотя им доверили свои ваучеры менее пятой части граждан. В 1993 году около 75% средств чековых фондов были направлены в краткосрочные и среднесрочные спекуляции ваучерами и лишь 15% непосредственно в акции приватизированных предприятий. Это объяснялось тем, что в ЧИФах были сосредоточены акции мелких и средних предприятий, на которые не было спроса, поскольку дивидендов они не приносили. Однако и преобладающая часть крупных предприятий в условиях кризиса экономики не имели шансов на получение прибыли. В конце 1993 года из 290 опрошенных руководителей предприятий 70% заявили, что они не могут выплачивать дивиденды, отчего ваучерные фонды оказались в незавидном положении. Но даже в тех редких случаях, когда управляющие ЧИФов, успешно вкладывали ваучеры в акции и потом продавали их с выгодой на рынке, эти деньги редко доставались рядовым акционерам — специалисты их банально уворавали. В 1994 году лишь каждый пятый ЧИФ выплатил, как правило, мизерные дивиденды своим акционерам. Однако лишь немногим из управляющих ЧИФов удалось сколотить крупные состояния.
Наиболее профессиональным с точки зрения собственного состояния оказался чековый инвестиционный фонд «Альфа-капитал», ставший приватизационной основой для «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Германа Хана и Петра Авена. «Альфа-капитал», сейчас превратившийся в инвестфонд, входит в «Альфа-групп» до сих пор. Правда, акционеров у него сейчас гораздо меньше тех двух миллионов, которых он набрал в среде ваучеровладельцев в 1993–1994 годах.
Пожалуй, это единственный пример, когда «управляющие» сумели войти в круг олигархов. После завершения ваучерной приватизации многие инвестиционные фонды тихо и незаметно ушли с рынка, продав ваучеры, так и не сумев использовать их соответствующим образом. К началу 1995 года из 650 фондов почти половина закрылась, не пройдя необходимую перерегистрацию в паевые инвестиционные фонды.
Если учесть, что средневзвешенный курс ваучера за эти полтора года составил около 20 долларов, треть промышленности страны перешла в руки предпринимателей, понявших смысл игры в ваучеры, за $ 1,2 млрд. Собственно говоря, это отвечало стратегической цели приватизаторов из ГКИ — концентрация большого количества ваучеров, по мнению руководителей Госкомимущества, должна была сформировать реальных собственников. Е. Ясин утверждает, что вся ваучерная приватизация свелась к операции прикрытия, обеспечившей благожелательное отношение населения к приватизации, вопреки искренним намерениям реформаторов создать «народный капитализм». Вряд ли сам Ясин верит в чистоту помыслов своих единомышленников, хорошо зная взгляды команды Гайдара — Чубайса. Он вынужден признать, что «народу- ни членам трудовых коллективов, ни владельцам ваучеров – не досталось почти ничего».
Выгоду от ваучеризации получили те, кому удалось за бесценок скупить у населения тысячи ваучеров и обменять их на акции предприятий. Впоследствии новые собственники и не скрывали этого. Характерно высказывание бизнесмена К. Бендукидзе, который приобрел за ваучеры крупнейший российский завод «Уралмаш»: «Для нас приватизация была манной небесной… Мы купили этот завод за тысячную долю его реаль-
ной стоимости». Компания Бендукидзе «Биопроцесс» приняла решение вбросить на чековый аукцион по продаже акций АО «Уралмаш», за 10 минут до завершения аукциона 130 тысяч ваучеров, скупленных в разных регионах. «Это была чистая, как слеза, приватизация по Чубайсу», — сказал Бендукидзе через день после этого решения, принесшего ему 18% акций «Уралмаша». В. Брынцалов, владелец самой большой в 1990-е годы российской фармацевтической компании «Феррейн», рассказывал, что свою первую фабрику он приобрел за мешок ваучеров. Владелец фирмы «Микродин» А. Епифанов купил всего за 1 млн. долларов (800 тысяч ваучеров) 25% акций такого гиганта, как «ЗИЛ», (на котором трудилось 103 тысячи человек), и стал его генеральным директором, Санкт-Петербургский судостроительный «Балтийский завод» был продан за 15 тысяч ваучеров. На одном из первых крупных инвестиционных аукционов — в начале 1993 года — пакет акций АО «Саянский алюминиевый завод» (всего 4,88% акций) приобрела некая фирма «Алюминпродукт», в руководстве которой находился тогда никому не известный Олег Дерипаска. Легенды рассказывают, как студент МГУ Дерипаска чуть ли не лично скупал ваучеры, а затем и акции СаАЗа, топчась на морозе у проходной хакасского завода. До того момента, когда Дерипаска возглавит завод, оставалось тогда два года. А затем — доля в АО «Русский алюминий» и должность генерального директора второй в мире алюминиевой компании. Начиналось все с того самого мешка ваучеров. Если подводить итоги ваучерной приватизации, то она дала стране как минимум пятерых олигархов — Михаила Фридмана, Олега Дерипаску, главу «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова (он сумел направить ваучерную приватизацию своей компании полугодовым скандалом с ГКИ в свою пользу), Каху Бендукидзе и отчасти Владимира Потанина (в его империю в 1995 году вошел холдинг «Микродин», активно работавший на приватизационном рынке).
«Ничего подобного, я думаю, в истории человечества не случалось», — так в 1995 году прокомментировал большую ваучерную игру ее автор Анатолий Чубайс.
Сам он, кстати, своим ваучером распорядился грамотно — вложил его в Первый ваучерный фонд (ПВФ). Фонд этот, некогда один из крупнейших, известен многими ваучерными вложениями, которые затем превратились во вложения таких китов, как Morgan Stanley и CSFB, в акции российских предприятий. Например, именно ПВФ помог шведско-норвежской Baltic Beverages Holdings купить контрольный пакет акций АО «Пивоваренная компания “Балтика”», крупнейшего игрока на российском рынке пива. В последующие годы Чубайс весьма успешно наращивал свои капиталы. Так, в 2011 г. его декларированные доходы от ценных бумаг и участия в коммерческих организациях составил почти 92 млн. рублей, еще 22 млн. составила его зарплата и 10 млн. составили доходы от вкладов в банках. К тому же он продал земельный участок в Тверской области за скромную сумму в 135 млн. рублей. Поскольку годовые доходы Чубайса ежегодно измеряются парой сотен миллионов рублей, то с большой долей вероятности его можно занести в список рублевых миллиардеров России.
Не менее сообразительным оказался шеф Чубайса Егор Гайдар. Он вложил свой ваучер в акции «Газпрома». Ну а Рудик решил «ваучерную проблему» просто, оставив ваучеры брату.
После завершения «Ваучерной эпопеи» в середине 1994 года, начались «приватизационные игры без «дураков», в борьбу за реальную собственность на этапе денежной приватизации включились обладатели солидных капиталов, имевшие поддержку в государственных структурах. Правительство и ГКИ надеялись, что среди потенциальных инвесторов примерно 34% будет приходиться на иностранные компании, 25% — на российские банки и другие финансовые институты, 25% — на население, около 10% — на инвестиционные компании (бывшие чековые фонды). Но все эти расчеты были построены на песке. Как признали сами реформаторы, инвестиции пошли в страну, но далеко не в той мере, на которую рассчитывали. Причиной тому были слабые гарантии прав собственности в условиях экономической и политической нестабильности, а в последние годы на первый план вышли коррупция, неэффективность налоговой и судебной систем. О бесславной судьбе ЧИФов уже говорилось, инвесторы из категории население в основном были представлены работниками приватизированных заводов и фабрик. Но многие из этих акционеров недолго пребывали в новом статусе — как отметили П. Филиппов и В. Берман, пакеты акций достаточно быстро концентрировались в руках стратегических инвесторов за счет продажи акций работниками-миноритариями. После завершения приватизации владелец контрольного пакета акций формировался примерно в течение полугода. Директора, скупив ваучеры работников, установили контроль над своими предприятиями и стали «играть» на стороне реформаторов против разобщенного и деморализованного населения. Но реформаторы рассматривали «красных директоров», получивших свои должности при советской власти, как потенциальную угрозу необратимости проводимых ими реформ и при дальнейшем переделе собственности оказывали скрытую, а подчас и явную поддержку «Новым Русским», в том числе и боссам ОПГ. По признанию ректора Высщей школы экономики Я. Кузьминова, чтобы выдавить «красных директоров», … в начале 1990-х годов … породили класс «малиновых пиджаков», которые благодаря своему животному интересу выдавили предшественников. Вероятно, говоря о животном интересе «малиновых пиджаков» — попросту говоря, бандитов, Кузьминов имел в виду нерасборчивость в средствах этих новых «стратегических собственников», которые не гнушались и убийствами чересчур несговорчивых конкурентов. А более сговорчивые были рады получить отступные, которых хватало не только детишкам на молочишко, но и на учебу детишек в престижных учебных заведениях Англии и Швейцарии, не говоря уже о покупке недвижимости в Лондоне или на Лазурном берегу, на худой конец в Испании, Греции или на Кипре.
Заметную роль на этом этапе приватизации уже играли новоявленные владельцы солидных капиталов, установившие тесные связи с государственными структурами. Популярной схемой приобретения крупных кусков бывшей государственной собственности была их продажа предпринимателям, близким к властям, на весьма выгодных для них условиях. Кредиторы получили право организовывать аукционы. Выиграли на них подставные организации, представлявшие их самих. Так, пакет из 45% акций «ЮКОСа» выиграло ЗАО «Лагуна», зарегистрированная в никому неизвестном Талдоме, за 159 млн долларов. Но организаторов аукциона это не смущало — они знали, кто стоит за этой «подставой».
За этапом «денежной приватизации» последовал этап так называемых залоговых аукционов — это вообще напоминало цирковое представление, где фокусник, то бишь ГКИ, вынимал из шляпы и раздавал слонов, то есть крупнейшие предприятия, заранее определенным счастливчикам — уже вполне сформировавшимся финансовым группам.
Затем наступил период точечной приватизации, фактически продолжающийся и сейчас, но в целом итоги приватизации и ее экономические и социальные последствия определились к концу 90-х годов.
Если говорить об итогах, то в результате продажи и раздачи в 1992-1999 гг. более 133,2 тысяч различных предприятий и объектов была получена ничтожно малая сумма – 9 миллиардов 250 миллионов долларов, (в среднем за каждое предприятие или объект – по 69,5 тыс. долларов). При этом доходы от приватизации 22,4 тыс. предприятий промышленности составили 347,2 миллиона долларов (или по 15,5 тысяч за одно предприятие). Для сравнения отметим, что стоимость одной иномарки в магазинах Москвы составляла в 90-е годы 7–50 тысяч долларов. (средняя стоимость дачи на Рублево-Успенском шоссе в Москве в 2014 г.-7 млн. долл.).
Как отмечает Н. Разуваева, средние цифры, хотя и очень показательные в данном случае, все же не отражали реальную картину беспрецедентно низких цен российской приватизации. Среди приватизированных предприятий были уникальные по мировым меркам производства, предприятия-гиганты черной и цветной металлургии, предприятия машиностроения, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, энергетики, морские и речные пароходства, часть собственности «Газпрома», «ЕЭС» и многое другое.
В 1996 г . в Государственной Думе была образована специальная Комиссия по анализу итогов приватизации в 1992–1996 гг . По данным, собранным Комиссией, 500 крупнейших предприятий России с оценочной рыночной стоимостью в 200 миллиардов долларов были проданы в ходе приватизации всего за 7,2 миллиарда долларов (или в 150 раз дешевле их реальной цены). 80 % этих предприятий были проданы на аукционах по цене менее 8 миллионов долларов каждое. Из 500 крупнейших российских заводов 324 завода были проданы по цене менее 4 миллионов долларов (цена одной средней хлебопекарни в Европе составляла, как отмечали эксперты, примерно 2 миллиона долларов). Например, Челябинский металлургический комбинат (35 тысяч рабочих) – за 3,73 миллиона долларов, Ковровский механический завод, обеспечивающий стрелковым оружием всю армию, МВД и спецслужбы (10,6 тысяч рабочих) – за 2,7 миллиона долларов, Челябинский тракторный завод (54,3 тысяч рабочих) – за 2,2 миллиона долларов.
В России от приватизации собственности на душу населения было получено всего 54,6 доллара, в то время как в Австралии – 2560,3 доллара, в Португалии – 2108,6, в Венгрии – 1252,8, в Италии и Великобритании – более чем по 1100 долларов на человека. То есть доходы от приватизации на душу населения в подавляющем большинстве стран в десятки раз превышали российские.
Представляют интерес расчеты О. Пчелинцева, в которых приведены данные о доходах государства в первой половине 90-х годов: продажа 70% национального производственного капитала принесла российской казне лишь 5 млрд, долл, (для сравнения: в Великобритании от приватизации лишь 3% предприятий во времена М.Тэтчер было получено 100 млрд.долл.). Масштаб этой недооценки становится ясным, если вспомнить эмпирическое правило, согласно которому стоимость основных производственных фондов любой индустриальной страны превышает ее валовой внутренний продукт примерно в 2 раза. А в России ВВП был равен даже в середине 90-х годов — в условиях кризиса и серьезной недооценки ряда продуктов и услуг — примерно 400 млрд. долл. Т.е. приватизационный “товар” был продан в 160 раз дешевле своей настоящей стоимости.
Кстати, в годы реформ произошло беспрецедентное в истории России в ХХ веке падение в объеме произведенного валового продукта. За период 1986-1996 годов ВВП России уменьшился на 40%, в том числе за 1993-1996 годы -на 28%. Для сравнения -падение ВВП России в период первой мировой и Великой Отечественной войн составили соответственно 26 и 21%. Это падение было обусловлено спадом в двух ведущих секторах материального производства — промышленности и сельском хозяйстве. За период с 1990 по 1999 год промышленное производство снизилось вдвое, причем наибольшее сокращение производства произошло в отраслях, производящих товары народного потребления: в пищевой промышлености, также, как в кожевенной и обувной, производство сократилось более, чем в 8 раз, в легкой и текстильной соответственно более, чем в 6 раз. Резко сократилось производство и в отраслях, выпускающих оборудование. Преобладающему числу предприятий надо было заботиться о выживании, а не мечтать о модернизации производства. Многие из них находились в состоянии комы, продолжавшегося годами и завершавшегося официальным банкротством уже в первом десятилетии следующего века. К началу 1994 г. инвестиции в экономику России сократились на 60% по сравнению с уровнем 1990 года, а в 1995 г . величина капиталовложений составила всего 29 % от уровня 1990 г. По уровню капиталовложений в собственную экономику Россия находилась в середине 90-х годов на 90-м месте в мире (после Ирака)
Ряд ключевых промышленных отраслей вообще исчезли. В начале 90-х годов в России производили станки окола 100 заводов, сейчас их изготовляют для своих нужд некоторые машиностроительные заводы в мизерных количествах. С 1990 года до настоящего времени производство станков в России сократилось в 30 раз. Доля России в производстве станков в мире составляет 0,3%, она занимает почетное 21-е место, уступая не только Китаю, Германии, Италии и США, но и таким странам, как Южная Корея и Тайвань. Аналогичная судьба была и у часовой промышленности России. Производство наручных часов сократилось с 1990 по 2004 год в 40 раз, почти все заводы либо прекратили свое существование, либо были перепрофилированы. Многие марки советских наручных часов успешно конкурировали с часами швейцарских и японских производителей, сейчас доля России в экспорте часов на мировом рынке составляет ничтожную цифру -0,02% .
Обвал произошел и в таких наукоемких отраслях, как электронное и электротехническое машиностроение, производство гибких автоматизированных систем и средств связи и др. К середине 90-х годов XX в. Россия утратила более 300 перспективных технологий в аэрокосмической, биотехнологической областях, в производстве новых материалов, в сфере информатики.. В 90-е годы в России распались уникальные научно-исследовательские коллективы мирового уровня, выдающиеся научные щколы.
Бесславно закончились и попытки реформаторов создать эффективный частный сектор в сельском хозяйстве. Ликвидация колхозов и совхозов проводилась под лозунгом «фермер накормит страну». Взятые за образец американские семейные фермы представляют даже не вчерашнее, а позавчерашнее лицо сельского хозяйства в США. К началу нынешнего века. мелкие фермы в США составляли 82%, от их общего числа (1,6 млн.) но их доля в сельскохозяйственном производстве составляла всего 12%, а доля 157 тысяч крупных сельскохозяйственных латифундий в производстве составляла 73%, в числе наемных работников, занятых в сельском хозяйстве -83%. В российских условиях ( без огромных субсидий, которые получают фермеры в Европе и США), семейные фермы по определению не могли обеспечить страну продовольствием. С 1990 по 1997 гг. выпуск сельскохозяйственной продукции сократился на 63%. Не используются или используются с убытком свыше 60% пригодных для пахоты земель. Из сельскохозяйственного оборота по различным причинам уже исключено 30 миллионов гектаров пахотной земли В результате производство зерна сократилось со 104, 3 миллионов тонн в среднем в 1986-1990 гг. до 47 миллионов тонн в 1998 г. и 45 миллионов в 1999 г. На долю фермерских хозяйств в России, (276 тысяч) в 1997 году приходилось 2% сельскохозяйственной продукции, причем на протяжении всех 90-х годов мелкие фермы в сельском хозяйстве России играли все меньшую роль.
Спад в сфере материального производства в определеной мере компенсировался ростом рынка услуг, особенно услуг, предоставлямых бизнесу -так называемого трансакционного сектора. Доля этого сектора в ВВП России увеличилась с 7 в 1990 г. до 30% в 1999 г. За эти годы были созданы тысячи крупных инвестиционных, страховых, пенсионных компаний, множество коммерческих и инвестиционных банков. К середине 90-х годов деятельностью на рынке ценных бумаг занимались 56 российских бирж. Размножились, без числа, охранные частные структуры, разного рода обслуга корпораций, банков, высшего чиновничества. И неисчислимое множество посреднических спекулятивных фирм и «товариществ».
В современной России на 26 тыс. ЧОПов трудятся почти 700 тыс. зарегистрированных охранников. В это число не включены администраторы, консьержи, менеджеры зала — теневые охранники, которые заняты тем же, что и обычные чоповцы. Их, по имеющимся оценкам, еще около 200 тыс. По оценкам профсоюза ЧОПов, всего в сфере негосударственной безопасности работает более 3 миллионов человек: сами охранники, менеджеры, советники, бухгалтеры и прочие.
Уволенные из НИИ и заводов инженеры срочно переквалифицировались в охранники. Когда Рудик приехал в Москву в середине 90-х годов, его поразили изменения в престижности профессий — ему рассказали об удаче одного знакомого инженера, который сумел устроиться охранником у ворот рынка. У знакомых, рассказавших эту историю, даже не возникало мысли о дикости этой метаморфозы толкового инженера. Теряли работу и квалифицированные рабочие в промыщлености и других отраслях экономики.
Главным итогом российских реформ стала трансформация российского общества и его морального облика. Известный экономист, академик Д.С. Львов, отмечал в своих выступлениях, что социальный подход является «нравственным императивом экономического роста». Этот императив был полностью проигнорирован реформаторами, которым присущ, как это отметил С. Карамурза, своего рода «этический нигилизм». «Рассуждая о кривых Филлипса, связывающих уровень инфляции и безработицы», писал С. Карамурза, «Гайдар был похож на генерала, который в генштабе США докладывает план бомбардировок Ирака в терминах, исключающих категории смерти и страданий. Сама фразеология говорит о том, что реформа основана на этике войны против собственного населения. Даже такой либерал, как академик Г.Арбатов, посчитал нужным отмежеваться: «Меня поражает безжалостность этой группы экономистов из правительства, даже жестокость, которой они бравируют, а иногда и кокетничают, выдавая ее за решительность, а может быть, пытаясь понравиться МВФ».
По данным Института социально-политических исследований РАН, Россия вышла на запредельно критический уровень по 24 показателям, среди которых деиндустриализация и депопуляция страны, физическая деградация человека, колоссальный рост преступности и самоубийств и многие другие индикаторы социального состояния общества. Но главный итог реформ в социальной сфере — происшедшая в России поляризация населения по уровню доходов и богатства, беспрецедентная по масштабам и скорости в истории. СССР не удалось превзойти Америку по объему производства, зато Россия догнала США по уровню концентрации богатства на одном полюсе общества и бедности на другом. Все остальные развитые страны остались далеко позади.
Соотношение доходов в верхнем и нижнем дециле (10% наиболее состоятельных и 10% наиболее бедных семей), по данным Госкомстата России в 1997 г. составил в среднем по стране 13,1, в 1980-х годах в СССР он составлял от 3 до 5 единиц. По расчетам профессора Н. Римашевской на конец 1998 г. этот показатель составлял 20,5, по другим экспертным оценкам порядка 30 к 1, в Москве даже 50 к 1. В скандинавских странах и в ряде других стран Западной Европы децильный коэффициент составляет 5-6 к 1, в США 10-12 к 1.
Нужно учесть, что 30-40% совокупного дохода остается в тени и преобладающая часть этих доходов также пополняет доходы высших децилей. При несколько другой группировке населения по уровню доходов и состояний можно сравнить две России: на долю первой России приходится примерно 15% ее населения, на долю второй — 85%. Население первой аккумулирует в своих руках 85% всех сбережений, хранящихся в банках, 57% денежных доходов, 92% доходов от собственности и 96% средств, расходуемых на покупку иностранной валюты. Вторая Россия получает лишь 8% доходов от собственности и располагает 15% сбережений. Разумеется, и в советские времена не существовало равенства в доходах, но такой социальной поляризации населения не было. В 1990 году на долю нижнего квинтиля (20%) граждан приходилось 9,8% совокупных доходов, на долю высшего квинтиля соответственно 33,4%, в 1995 году аналогичные показатели составили 6,1 и 46,3%, а в 2012 году соответственно 5,2 и 47,6%. За анонимными гражданами различных децилей скрываются принципиально новые для России социальнве страты. Если рассмотреть нынешнюю социальную пирамиду в России (один из российских социологов предложил ее называть не пирамидой, а остроконечной соломенной шляпой с широкими полями), то на самом верху комфортно устроилась небольшая по численности группа олигархов с миллиардными состояниями. Впервые в рейтинге американского журнала «Форбс» семь российских миллиардеров появилось в середине 90-х годов и затем их число стало стремительно расти, что позволило России выйти на второе место в мире по числу миллиардеров несколько лет назад. Но ее в 2014 -2015 году обошли Китай, Индия, Великобритания и Германия. В 2015 году число миллиардеров в России снизилось с 111 до 88, из-за обесценения их рублевых активов, обусловленного девальвацией рубля. Если включить в список олигархов всех владельцев 200 самых крупных состояний в России (минимальные состояния — 400 млн. долларов), то их совокупный капитал в 2013 г. составлял 488 млрд долл.
Возникает вопрос: как могло появиться такое число миллиардеров в России в столь короткое время? Ответ на него достаточно очевиден. Р. Медведев отметил, что первым источником богатства в новой России стало богатство плутократическое, деньги от власти. Получил лицензию на экспорт нефти, леса, цветных металлов, имеешь, образно говоря, доступ к трубе — считай, что тебя назначили миллионером. Получил возможность распоряжаться бюджетными средствами во времена большой инфляции — значит включен счетчик личного обогащения. Не зря, по данным социолога А. Овсянникова, 97% граждан России считают, что для того, чтобы стать богатым, нужно иметь связи, 63% -высокую должность до начала реформ, 62% -предшествующую работу в госаппарате, 50% — контакты с криминальными структурами. Соответственно новый класс собственников в России сформировался из представителей высшей и средней номенклатуры и их отпрысков, директоров и других руководителей предприятий и дельцов теневой экономики, сумевших не только сколотить кое-какой капиталец еще до начала приватизации, но и установить необходимые связи в государственном аппарате. Сам способ приватизации — распродажа государственных предприятий по бросовым ценам, породил, по меткому замечанию российского экономиста О. Пчелинцева, «сюрреалистический рынок, на котором товары продаются, а собственность по существу раздается».
Из 115 представителей российской бизнес-элиты, попавших в выборку в исследовании О. Крыштановской в 1993 году, 61% ранее работали в органах власти, в том числе 37 и 13% были соответственно на комсомольской и партийной работе, 4% работали в исполкомах советов депутатов, 37% на номенклатурных должностях в министерствах и ведомствах. В других органах власти работало 8,6%. Из высшей номенклатуры — должностей, утверждавшихся Политбюро ЦК — пришло в бизнес 5%. Но даже среди тех 39% представителей бизнес-элиты, которые никогда не работали в органах власти, многие были выходцами из «номенклатурных» семей: у 37% номенклатурными работниками были отцы, а у 18% — матери. (О. Крыштановская. Анатомия российской элиты. стр.342)
Типичной схемой формирования финансово-промышленных групп (ФПГ), находящихся под контролем олигархов, было появление на первом этапе коммерческих банков, которые получали статус «уполномоченных» — то-есть государство уполномачивало привилегированные банки осуществлять самые выгодные операции. Учредителями этих банков являлись крупные государственные структуры, Привилегия делать большие деньги давалась только «номенклатурным» банкам, связанным невидимыми нитями с политической элитой общества. Затем эти банки по собственной инициативе или по инициативе власти приступили к созданию ФПГ — организовывали филиалы в регионах, поглощали другие банки, не имевшие статус «уполномоченных», скупали акции промышленных предприятий — своих клиентов а затем приобретали солидные пакеты акций перспективных предприятий. Так в России появились «бизнес — империи», в каждую из которых входят несколько десятков юридических лиц. Эти империи представляют конгломераты, в которые входят единоличный владелец или управляющая группа олигархов, материнская компания, финансовая структура (как правило, банк), промышленные предприятия, печатные и электронные СМИ. Каждая империя имеет многообразные связи с зарубежным капиталом, свои филиалы за рубежом и, разумеется, компании и счета в оффшорах.
Однако появившаяся в 90-е годы российская буржуазия состоит не только из пары сотен миллиардеров и мультимиллионеров. При всем желании бизнес-элита была не в состоянии присвоить все национальное достояние — пирог был слишком велик. Существенный кусок этого пирога достался российским нуворишам — миллионерам, общая численность которых по разным оценкам варьируется от 92 до 213 тысяч, а их совокупный капитал по оценке американских экспертов составлял в 2013 году 1,9 триллиона долларов. Каким образом российские миллиардеры и миллионеры накопили такие суммы? Чтобы разобраться в этом, необходимо пристальнее приглядеться к российским нуворишам. В общей численности населения на эту группу приходится 0,3- 0,4%, и ее часто до последнего времени называли «новыми русскими».
Это название появилось после публикации в 1992 г. одноименной статьи в газете «Коммерсантъ». Впрочем, вполне возможно, что авторы этой статьи видели или даже читали книгу недоброй (для Рудика) памяти американского журналиста Х. Смита «Новые русские», изданной двумя годами ранее, и представлявшей своего рода продолжение его книги «Русские». Последняя, как уже отмечалось в одном из предыдущих разделов, стала причиной крупных неприятностей в школе для сына Рудика и его самого. Но времена изменились, и в чтении зарубежных критиков советской и постсоветской эпохи уже не было ничего предосудительного. Что касается термина «Новые русские», то он превратился в своего рода мем. О новых русских сочинялись многочисленные анекдоты, высмеивался их дресс-код (малиновые пиджаки и массивные золотые цепи).
По определению «новые русские» вряд ли были способны осуществить модернизацию экономики, сделать ее конкурентоспособной по мировым меркам. Один из сподвижников А. Чубайса, П. Филиппов, так характеризует российскую буржуазию (пардон, «корпоративный бизнес»):
В начале 1990-х годов в России не было и не могло быть традиций честного ведения корпоративного бизнеса. Многие предприниматели не ощущали необходимости придерживаться ни норм закона, которых часто просто не было, ни норм морали. Представители партийно-хозяйственной номенклатуры и при советской власти не отличались порядочностью, что хорошо видно по размаху номенклатурной приватизации. Трудно было предположить, что, став собственниками приватизированных предприятий, они не попытаются обмануть мелких акционеров. Господствующий в среде российской буржуазии социальный цинизм и смычка с криминалом предопределяли стратегию поведения – прирост капитала любой ценой.
Перевод прибыли за счет игры цен посредническим фирмам, принадлежавшим владельцам контрольных пакетов акций, позволял последним не выплачивать дивиденды, скупать акции у миноритариев по бросовым ценам. Среди акционеров было много работников предприятий, поэтому преднамеренная задержка с выплатой зарплаты также способствовала скупке акций с минимальными издержками. Коррупционные сделки с чиновниками министерств ради получения льгот, подкуп управляющих компаний ЧИФов, заказные убийства конкурентов – вот далеко не полный арсенал противоправных методов обогащения многих представителей бизнес-элиты.
С этой характеристикой «новых русских» совпадает и их описание Е. Ясиным: … «с новыми предпринимателями справиться не так просто. Они более энергичны и напористы, как бы были делегированы «остальным населением» в деловую элиту и все чаще переигрывали бюрократию и советских менеджеров. Люди, которые вчера были никем, наглые, пронырливые, проникали всюду».
Всей этой пестрой по составу группе катастрофически не хватало не только общей культуры, как это видно из анекдотов о «новых русских», но и капиталов, необходимых для самой модернизации. Хозяева, столкнувшиеся с убыточностью доставшихся им почти даром предприятий, подчас шли по самому простому пути — распродавали (но уже по рыночным ценам) оборудование, материальные запасы, помещения и т.д. Типичный пример — приобретение ЗИЛА фирмой «Микродин» за 4 млн. долл. Разумеется, фирма просто нс знала, что ей делать с этой “подвернувшейся” покупкой. “Полет” мысли “Микродина” не простирался дальше
возможности перепродать отдельные здания или участки заводской территории. Ни о каких новых моделях автомобилей или новых технологиях и речи не шло. Да у фирмы и денег таких никогда нс было.
Собственность просто перешла на другой уровень «ничейности» и воспринимается не как реальная собственность, а как временный источник доходов. Е. Ясин сформулировал определение такого отношения к приобретенной собственности и попытался оправдать его:
…»рентоориентированное» (выделено автором) поведение молодых предпринимателей и чиновников оказалось наиболее рациональным. Тот, кто прежде других оценил это обстоятельство, выиграл в гонке за распределение ставших бесхозными богатств. В России наступил период хаоса. Криминализация и коррупция не родились в тот момент, но расцвели пышным цветом. Казалось, ужас и конец всему. Это если смотреть из вчерашней мирной жизни, не имея представления о том, что происходит в стране и почему происходит.
Но этот хаос был созидательным. Из него, из стихии реальных социальных процессов рождались рыночная экономика и частная собственность… Потом, прежде всего у тех, кто больше нахапал, родился спрос на защиту собственности. Сначала казалось, что для этого достаточно роты охранников. Позднее пришло ощущение, что закон и его соблюдение лучше. На рынке стало тесно, рентоориентированное поведение исчерпало свои выгоды… Рентоориентированное поведение, не сдерживаемое ни равновесием рынков, ни институциональной системой, претерпевающей радикальные перемены, становится на какое-то время самым разумным.
Проще назвать эту группу «рентоориентированных» бизнесменов мародерами, руководствующимися принципом -«хоть шерсти клок». Многие из этих мародеров предпочли этот «шерсти клок» как можно быстрее перевести заграницу. Как отметил Р. Медведев, перевод капиталов заграницу российскими нуворишами был обусловлен страхом и неуверенностью собственников в стабильности нового порядка в России, где уже дважды на протяжении этого века частная собственность была экспроприирована. Сам способ приобретения «нажитого непосильным трудом» богатства напоминал им, что «самое главное для вора- это во время смыться»
Те же опасения были характерны и для зарубежных инвесторов, на которых возлагалось столько надежд в начале 90-х годов. Они предпочитали вкладывать свои капиталы главным образом в финансовую сферу и те отрасли экономики, которые гарантируют быстрый возврат средств и солидные прибыли — торговлю, производство продуктов питания, напитков, мебели, гостиничное хозяйство и т. п.
Исследования целей, видов вывоза капитала из России показывают, что только небольшая доля экспорта капитала направлялась в развитие бизнеса в форме прямых инвестиций (10-15%). Преобладающая часть вывозимых капиталов приходилась на вложения в недвижимость, открытие накопительных счетов (65-70%) А. Нечаев в передаче «Особое мнение» на радиостанции «Эхо» отметил, что «в 90-е годы отток капитала из России определялся желанием новых собственников обеспечить себе «заначку на черный день». Деньги вкладывались в ценные бумаги или просто помещали в банк под низкие проценты по российским меркам, покупалась недвижимость, виллы, яхты, картины, антиквариат, русские активно участвовали во всех международных аукционах». Как правило, российские нувориши не «светились» на этих аукционах, если не считать известной истории приобретения олигархом Вексельбергом «яиц Фаберже», которые он вернул государству, получив своего рода индульгенцию за грехи 90-х годов. Это событие широко освещалось в российских СМИ, но больше публиковалось материалов о пресловутом «золоте партии».
Вопрос о «золоте партии», как отметил О. Логинов, стал краеугольным камнем в междоусобице старой коммунистической и новой демократической властью, которые грызлись между собой за личную собственность… Однако Егор Гайдар только и смог, что для поиска золота КПСС за грани¬цей нанять американскую де¬тективную компанию «Кролл Ассоушиэйтс», которой запла¬тил 1 млн 500 тыс. долларов из российского валютного ре¬зерва. Если золото и вывози¬ли, то занимались этим совет¬ские кадровые разведчики. Супротив них американские частные детективы были деть¬ми. Как и следовало ожидать, следов массового вывоза партийных средств не было обнаружено. А полтора мил¬лиона долларов, заплаченные «Кроллу», оказались фактиче¬ски выброшенными на ветер.
Пик интереса к этой теме пришелся как раз на 1993-1994 годы В кинопрокате шли художественные и псевдодокументальные фильмы, издавались многомиллионными тиражами книги о»золоте партии». Спекуляции по этому поводу были призваны отвлечь внимание российских граждан от происходящего на их глазах грабежа народного достояния, который по своим масштабам в разы превышал называемую стоимость «украденного коммунистами золота». Вместе с тем перепевы темы с «золотом партии» были лишь одним из способов, используемых лояльными власти экспертами, различными социологическими службами и СМИ для прикрытия сути происходящих в России социальных процессов, в частности беспрецедентной в ХХ веке маргинализации населения. Реставрация капитализма сопровождалась формированием двухполюсной социальной структуры населения. Одновременно с появлением «наверху» бизнес-элиты «внизу» стремительно увеличивалось так называемое «социальное дно». Среди его, если так можно выразиться, «обитателей» Н. М. Римашевская выделяет нищих, открыто просящих подаяние (3,4 млн. человек по данным проведенного ею исследования), «бомжи», лишившиеся своего жилья (3,3 млн. человек), беспризорные дети, которые потеряли родителей или убежали из дома (2,8 млн.) и уличные проститутки (включая детей), ведущие асоциальный образ жизни (1,3 млн.). В целом минимальные размеры «социального дна» составляют 10% городского населения, или 10,8 млн. человек.
Как показало исследование Н. Римашевской, представители «социального дна» имеют сходные черты. Это люди, находящиеся в состоянии социальной эксклюзии, лишенные социальных ресурсов, устойчивых связей, утратившие элементарные социальные навыки и доминантные ценности социума. Они фактически уже прекратили борьбу за свое социальное существование. В то же время каждая из названных групп обладает своей спецификой, но между ними нет жестких граней: бомж может быть нищим, а беспризорник бомжем. Тем не менее все представители «социального дна» имеют свои признаки, особенности формирования и социально-демографические свойства их идентификации.
Основная черта нищих — просить подаяние из-за отсутствия дохода или его катастрофического уменьшения, когда нет помощи ни со стороны общества, ни от близких людей, и нет возможности их заработать. Очевидно, что физическое отсутствие крыши над головой и есть главная характеристика бомжей. Они лишаются своего жилья, как правило, в результате обмана, продажи, при возвращении из пенитенциарных заведений. Основным признаком третьей группы — беспризорники — является возраст; в нее входят дети от 6 до 17 лет, которые в той или иной форме отвергнуты семьей, либо своими попечителями. Последняя группа — уличные проститутки — отличаются характером своей деятельности. Каждая четвертая обследованная из них считает проституцию «престижной профессией», каждая вторая рассматривает ее как единственную возможность получить «хороший заработок», способный обеспечить нормальный уровень жизни1. В значительной мере деятельность этих женщин, а порой и детей определяется безысходностью жизненных условий. Анализ данных показывает, что «социальное дно» имеет преимущественно «мужское лицо». Среди его обитателей две трети — мужчины и одна треть — женщины. «Дно» в России молодо: средний возраст нищих и бомжей приближается к 45 годам; у беспризорников он равен 13 годам, у проституток — 28. Минимальный возраст нищих — 12 лет, а проституток — 14 лет; беспризорничать же начинают уже с 6 лет. Большинство нищих и бомжей имеют среднее и среднее специальное образование, а 6% нищих, бомжей и проституток — даже высшее. Около 14% представителей «социального дна» живут небольшими группами или колониями, остальные — в семьях или одиночками. Места их обитания весьма разнообразны: в квартирах (своих или знакомых), в подвалах и на чердаках домов, в заброшенных домах и садовых домиках, на вокзалах и в портах, в теплотрассах и канализационных коллекторах или колодцах, на свалках. Наиболее неустроенными являются бомжи и беспризорные дети. Значительная часть нищих и бомжей трудилась ранее неквалифицированными рабочими, на грязном производстве. Кроме того, у многих была разъездная работа с длительным отрывом от дома. Проститутки работали преимущественно в общепите и торговле.
Среди нищих и беспризорников высокий процент алкоголиков и токсикоманов. Большинство представителей «дна» имеют следы сильных побоев; две трети питаются крайне нерегулярно и пищей плохого качества. Обитатели «дна» в России — естественный ресурс уголовного мира. По информации Комитета социальной защиты г. Москвы, средний доход бездомной попрошайки составляет 1 тысячу рублей в день. Это и есть основа их рекрутирования криминальными структурами и различными шайками. Только одни сборы «профессиональных» нищих оцениваются в 1,5 млрд. рублей в год. Криминалитет контролирует проституцию, привлекает представителей «дна» к наркобизнесу и для исполнения «грязной и опасной работы». Об этом заявили примерно 73% проституток, 50% бомжей и 48% беспризорников.. Наркоманы и алкоголики сосредотачивают самые серьезные факторы риска для общества. (Н.М.Римашевская «Бедность и маргинализация населения (социальное дно)». Социологические исследования. №4 2004).
Было бы глупо отрицать, что в СССР не было проституток, нищих, беспризорников, но они не исчислялись миллионами. К сожалению, нет данных о социальном дне в советские времена, что не позволяет сравнить масштабы этого социального феномена до и после реставрации капитализма. Но в росте, скажем, того же нищенства можно было убедиться в поездках в московском метро. В начале 90-х годов за 10-15 минут во время поездки по вагону проходили как минимум двое — трое попрошаек, среди которых выделялись инвалиды — ветераны афганской войны в своих тельняшках, которых везли на колясках девушки. Попрошайки стояли чуть ли не на каждой ступеньке в подземных переходах, у подъездов вокзалов, рынков и т.д. Рудику запомнился эпизод, когда он спросил синего от холода мальчишку, сидевшего на ступеньках подземного перехода у Киевского вокзала, сколько ему нужно денег, чтобы уйти домой, тот отвернулся, ничего не сказав. Рудик понял, что крышующий мальчика «бригадир» не позволяет ему покинуть «доходное место» без разрешения. Рудик, как правило, не давал денег нищим, хотя бы потому, что не было средств для благотворительности. Единственное исключение он делал для бабушек, стоявших поздними вечерами в переходах метро и протягившим пассажирам руку с газетой. Он давал деньги и не брал газету, полагая, что какая-то толика денег останется у несчастных старух, положение которых было немногим лучше, чем типичных обитателей «социального дна». Они, как и преобладающая часть других российских пенсионеров, по классификации, принятой в западной социологии, входят в «низший» класс российского общества, с довольно размытыми границами. Выше уже упоминалось, что середине 90-х годов доходы 50 миллионов российских граждан, примерно трети взрослого населения, были ниже установленного уровня минимального потребительского бюджета. По оценке Н. Римашевской доля низшего класса составляла в эти годы 71%, в том числе на долю малообеспеченных приходилось 18%, а остальные были «просто» бедными. По социально — профессиональному составу 39% российской «бедноты» составляли работающие, 21% -пенсионеры, 3% -безработные, более 5% женщины -домохозяйки, включая находившихся в декретном отпуске по уходу за ребенком.
В последующие годы ситуация несколько улучшилась, но масштабы абсолютной бедности — то есть практически нищеты- в современной России остаются на уровне 13-15%. (доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума). Если воспользоваться критерием, принятом в ОЭСР, (доля населения, располагающая доходом ниже 60% медианного дохода), то относительная бедность российского населения в 2008 году составляла 26% и 11% в 1990-м. Средний показатель в странах Европейского Союза в 2010 г составлял 17%., худший у Латвии -22%. Существенная часть рабочего класса, выжившая после либеральных реформ и массового закрытия предприятий, или входит в число бедных, как уже отмечено выше, или прочно обосновалась в низшем классе. По самым скромным оценкам численность рабочего класса России сократилась в 90-е годы на 6 млн. человек. В небольшом числе публикаций, в которых затрагивается тема рабочего класса, их авторы отмечают, что в 90-е годы в результате трансформации российского общества рабочий класс “почти в полном составе подвергся нисходящей социальной мобильности”, оказавшись на нижних ступенях социальной лестницы по критериям доходов, власти и престижа. «Класс- гегемон», представители которого составляли большинство в советах депутатов всех уровней, включая Верховный Совет, где они блистали со звездами Героев Социалистического труда, а на всех крупных предприятиях красовались на досках почета у входа, выпал из поля зрения исследователей и общества в целом. Вся система наград СССР исчезла вместе со страной в 1991 году и лишь через 20 лет в России реанимировали награду Героя Труда. Даже в КПРФ, по определению являющейся партией рабочего класса, простых работяг не особо жалуют, судя по тому, что в думской фракции КПРФ нет ни одного рабочего, зато есть три предпринимателя с годовыми доходами более 50 млн. рублей. Кстати, единственная партия, в думской фракции которой есть двое рабочих, это «Единая Россия». Впрочем, все системные политические партии современной России не говорят, что их электорат – это буржуазия, так же, как и то, что они опираются на пролетариат. «У всех опора – народ, широкие слои населения, средний класс. Капитализм есть, а капиталистов нет.. Есть временно обедневшие, а также немного разбогатевшие представители интеллигенции, иногда называемые на массовом жаргоне олигархами». (Н. Попов. «Средний класс: его соседи сверху и снизу».: МИР ИЗМЕРЕНИЙ №3,2009гстр.48)
Ну а в СМИ героями эпохи стали «новые русские», кооператоры, фермеры и даже «воры в законе», а из лексикона обществоведов исчезли базисные понятия марксизма — буржуазия и пролетариат. Подавляющее большинство социологов занялось поисками среднего класса России, который заменил рабочий класс в роли ведущего класса российского общества. С точки зрения обществоведов — либералов государство без среднего класса считается нестабильным и предрасположенным к социальным потрясениям. Попытки искусственно нарастить численность среднего класса начались с 1990-х годов. Так как реформаторы не могли признать, что их реформы на деле обернулись уничтожением социально-экономического благополучия страны, они стали симулировать свои успехи. Поскольку развивающаяся рыночная экономика невозможна без развивающегося среднего класса, в России, охваченной бандитским переделом собственности, преступники стали называться предпринимателями, они же вошли в число «середняков». Остальные граждане подтянулись по принципу самоидентификации, который, по мнению Рудика, для России абсолютно непригоден — большинство респондентов в опросах, проводимых в России, из гордости или по другим причинам не хотят идентифицировать себя как бедных. По своему социально -профессиональному составу так называемый «средний класс» представляет очень пеструю группу. В нем можно выделить традиционный слой мелкой буржуазии, которая использует в своем бизнесе наемный труд в ограниченных размерах или вообще его не использует. Традиционно к среднему классу относят и верхушку рабочего класса — так называемую «рабочую аристократию», которая в силу разных исторических причин добилась привилегированного положения в системе капиталистических производственных отношений. Но с развитием капитализма, особено с переходом к «постиндустриальному обществу» все заметнее становится новый средний класс — специалисты с высшим образованием. В России этот класс состоит прежде всего из работников филиалов зарубежных фирм, совместных предприятий, среднего звена менеджеров банков и других финансовых организаций, экспертов многочисленных центров и фондов, финансируемых зарубежными инвесторами и большинства работников в сфере обслуживания слоя богатых и сверхбогатых. Разумеется, в него входит высшее и среднее чиновничество.
Единственное, что объединяет представителей среднего класса -отсутствие в его составе безоговорочно богатых и бедных. Такого рода формулировку называют определением » методом от противного». Это далеко не лучший способ формулирования научных понятий, но в социологии он используется. Однако «отсечь» богатых и бедных от средних слоев не так просто. Для этого используются разные критерии, причем средний класс начинает сжиматься как шагреневая кожа по мере увеличения используемых для его определения признаков. Так, российские социологи из центра Карнеги использовали для идентификации среднего класса в России всего три критерия, но только 7% ее населения могут быть отнесены к среднему классу по всем этим критериям, в то время как по одному из них в средний класс могут быть включены от 20 до25% российских граждан.(Б. Дубсон. Богатство и бедность в Израиле. Москва, 2004 г. стр. 199, 211). В более поздних исследованиях российских социологов, в частности работе директора Института социального анализа и прогнозирования (ИнСАП) РАНХиГС, профессора НИУ ВШЭ Т. Малевой и ее соавторов, для определения границ среднего класса также использовалось три критерия. К среднему классу авторы исследования отнесли людей, обладающих, по крайней мере, двумя из трех критериев, которые традиционно приписываются людям из этой социальной группы. Это уровень материальных активов (доход не ниже средней заработной платы по региону, наличие сбережений, достаточных для приобретения автомобиля), набор социально-профессиональных признаков (высшее образование, принадлежность к группе специалистов или предпринимателей) и субъективные самоощущения человека (достаточно высокая оценка положения в плане благосостояния, власти и уважения). Как показали расчеты, масштаб российского среднего класса не менялся с начала 2000-х годов и составлял около 20%. При этом ядро среднего класса гораздо меньше – 8,1% населения. Эти люди обладают всеми тремя признаками среднего класса. По сути дела конкретные цифры в этой работе совпали с приведенными выше оценками социологов из центра Карнеги.
Почему же социальная структура остается удивительно стабильной в течение двух десятилетий после начала реформ? По мнению Малевой и ее коллег в России действуют ограничители, способные свести на нет все попытки стимулировать рост среднего класса за счет наращивания доходов населения. Это человеческий капитал (многие люди не имеют достаточного образования) и структура рынка труда (дефицит квалифицированных рабочих мест). За годы экономического роста модернизационный потенциал российской экономики не был реализован, что отражается в ее архаичной структуре и, как естественное следствие, в структуре рынка труда и качестве рабочих мест. «В сложившейся к настоящему времени отраслевой структуре экономики 20% среднего класса – не минимальная, а, по-видимому, максимальная его доля, – утверждают Малева и ее соавторы. В настоящее время сегмент рабочих мест, отвечающих инновационному типу экономики, то есть требующих высокой квалификации, современных компетенций и, соответственно, характеризующихся высокой оплатой труда, невелик». Без роста числа таких рабочих мест вход новых массовых групп населения в состав среднего класса невозможен. «Попасть в средний класс из нижних слоев общества сейчас практически невозможно, так как социальные лифты уже не работают», – считает Малева.
Но, может быть, такая оценка чересчур пессимистична? Скорее всего нет, если принять во внимание оценки зарубежных экспертов.
Наиболее высокую планку для зачисления в состав среднего класса установили эксперты банка » Credit Suisse «. По выбранному ими критерию в средний класс входят взрослые граждане, финансовые и прочие активы которых составляют от 50 до 500 тысяч долларов. Минимальный порог в США соответствует двум средним зарплатам и позволяет пережить кратковременные трудности, обусловленные болезнью, потерей работы и т.п. Верхний предел гарантирует среднемесячный доход на душу населения после прекращения трудовой деятельности. В США доля среднего класса, подсчитанного по этой методике, в 2015 г. составляла 38%, что намного меньше, чем в Австралии (аналогичный показатель 66%), в Сингапуре (62%) и в большинстве стран Западной Европы и Японии (59,5 — 62%). При этом доля «высшего класса», с размерами активов более 500 тысяч долларов в этих странах варьируется в пределах от 8% (Япония и Италия), до 13-14% в Австралии и США. Что касается России, то доля среднего класса по подсчетам швейцарских экспертов, составляла в ней в 2015 г. 4,1%, а доля высшего класса соответственно 0,5%. Даже в Китае и Египте, не говоря уже о восточноевропейских странах, доля срелнего класса в населении была выше. Но самое интересное, что по оценке швейцарских экспертов Россия входит в число пяти стран, в которых в период с 2001 по 2015 год доля среднего класса уменьшилась. Это произошло в России, Аргентине, Египте, Греции и Турции. (Credit Suisse. Global Wealth Report 2015.№ 8)
Тот факт, что при использовании показателя размера активов (или сбережений) доля среднего класса в России намного меньше, чем в оценке его размеров по показателю уровня текущих доходов, не удивителен с учетом практического обнуления дореформенных сбережений населения в результате либерализации цен и их последующего галопирующего роста в первой половине 90-х годов и потерь миллионов граждан, вложивших свои накопления в обанкротившиеся финансовые пирамиды, такие, как МММ. По данным исследования, проведенного Н. Римашевской , в 1996 г. на долю 3% самых богатых россиян приходилось 73% сбережений населения и 80% наличной валюты. Остальные сбережения распределялись следующим образом: на долю 52% бедных граждан приходилось 1,4% сбережений. В этой группе 40% семей вообще не имели никаких сбережений, а еще 24% ( из общего числа семей в этой группе) — символические сбережения в сумме не более тысячи рублей. Следующие 19% населения, на долю которых приходилось 1,9% сбережений, тоже с полным основанием можно отнести к категории малообеспеченных семей. Остается 24% процента семей, в том числе 18,2%, на которых приходилось 8,7% всех сбережений и 5,8% всего населения, на которые приходилось 15,5% от общей суммы сбережений. Но можно предположить, что отнюдь не все семьи последней группы имели активы, превышающие 50 тысяч долларов. Кроме того, нужно учесть, что девальвация рубля в 2014 -2015 гг. повлекла за собой обесценение рублевых активов.
. Приведенные цифры свидетельствуют о том, что в России не работает еще одна из популярных на Западе идеологем — так называемый эффект «trickledown». Суть этого эффекта сводится к тому, что богатство должно “просачиваться” сверху вниз – от зажиточных слоёв к низшим. Однако это не произошло в России и вряд ли произойдёт в дальнейшем. Впрочем, не происходит этого и в Америке: за последние три десятилетия при росте экономики средний класс сжимался и его доля в национальном доходе уменьшалась. Так что мечты о превращении по крайней мере половины населения России в «средний класс», как свидетельствуют реальные факты, остаются несбыточными.
Если последствия либеральных реформ в сфере экономики и в социальной структуре все же можно оценить какими-то количественными параметрами, то последствия синдрома вживания в катастрофу, (как назвал этот психологический феномен академик Д. Львов), включая все преступления и несправедливости 90-х годов — голодные смерти, увеличение смертности и падение рождаемости, рост наркомании и алкоголизма, волну сиротства и детской проституции, уничтожение бесплатного образования и медицины вкупе с оплевыванием всего патриотического, то бишь воспитанием национального самонеуважения, блядвой по телеку и братвой на улицах, воровством, массовой эмиграцией, и тотальным имморализмом молодого поколения — все это вряд ли можно охарактеризовать конкретными цифрами за небольшим исключением. Так, в 90- годы среднее число умышленных убийств в год составляло 32 тысячи. Напомним, что афганская война обошлась СССР по разным оценкам в 13-15 тысяч жизней. Численность алкоголиков в современной России оценивается в 20 миллионов, примерная численность контигента, испытывающего наркозависимость, составляет 6 млн. человек. Наркомания как серьезная проблема появилась в СССР в 80-х годах прошлого века. По имеюшимся данным численность зарегистрированных в наркодиспансерах наркоманов составляла в 1984 г. 14 тысяч, в 1990 г. 26 тысяч, в 1994 г. -39 тысяч. Но эта была только верхушка айсберга, большинство наркоманов оставалось неучтенным в официальной статистике. По мнению ряда экспертов число наркоманов растет ужасающими темпами и их численность достигла 6 млн. человек. Немалую роль в росте наркомании, в частности потребления тяжелых наркотиков, играет их сравнительная доступность. После ликвидации пресловутого «железного занавеса» и СССР наркотрафик стал намного легче, а борьба с распространением наркотиков практически оказывается бесплодной.
Общую картину деградации российского общества характеризует так называемый индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), ежегодно публикуемый ООН. В основу расчета этого показателя заложена концепция развития человека, определяемая как процесс расширения диапазона возможностей выбора. Наиболее важными факторами являются продолжительность жизни и ее достойный уровень, здоровый образ жизни, высокий уровень образования. В рейтинге ООН по этому показателю Россия с завилным постоянством занимает места в шестом десятке. В 2012 году она занимала 55-е место, в 2015 году опустилась на 57-е. Наиболее безотрадная ситуация сложилась в сфере здоровья населения: по предполагаемой средней продолжительности жизни Россия занимает место во второй сотне рейтинга ООН.
Спустя четверть века после начала реформ можно только с усмешкой вспоминать о вере российских граждан в посулы реформаторов, обещавших, что в России появятся такие же «пышные пироги», как на Западе, в ближайшем будущем. Собственно говоря, уже в самом начале реформ -после либерализации цен и ваучерной приватизации — большинство российских граждан поняли, что их, грубо говоря, надули, как последних лохов. Когда Рудик пришел в свой институт через несколько лет жизни в Израиле, многие из его коллег вынуждены были признать, что они ошибались в оценке Ельцина и либеральных реформ. Но, как говорится, поздно было пить Боржоми.
Что касается российских реформаторов, бравировавших своей готовностью взять на себя роль «политических самоубийц», вряд ли они были готовы к такой однозначно негативной оценке их деятельности большинством российских граждан. Е. Гайдар, занимавший в начале 1992 года пост первого вице-премьера правительства и министра финансов РФ, а затем с июня по декабрь 1992 года пост исполняющего обязанности главы Совета Министров РФ. так и не стал никогда премьер-министром -Верховный Совет РСФСР воспротивился его назначению — слишком ужасны оказались последствия его реформ. Но перед своим уходом из правительства он успел позаботиться о своем будущем — подписал распоряжение правительства о передаче своему Институту огромного комплекса зданий в центре Москвы. Потом злые языки шутили, что при царе в одном из его корпусов располагался публичный дом, и назначение этого здания с тех времен не изменилось. Единомышленики Гайдара, уйдя из правительства, сделали неплохую карьеру- кто-то в бизнесе (П. Авен стал миллиардером), кто-то в престижных вузах , занимая посты ректора или завкафедрой. А некоторые, как Алексашанко и Кох, уехали заграницу. И все они до сегоднешнего дня пытаются оправдать так называемые реформы
Признавая. что в ходе реформ были допущены ошибки, тем не менее они утверждают, что в целом стратегия реформ привела к к реализации поставленной цели — реставрации капитализма. Помимо постоянного напоминания, что они спасли Россию от голода, в ответ на критику они используют еще ряд аргументов. Достаточно показательной в этом отношении является апология реформ в статье П. Филиппова и В. Бермана. Как и многие другие либералы, они утверждают, что, спешка при проведении приватизации была вынужденной — если бы реформаторы не поторопились, то старая партийно-хозяйственная номенклатура присвоила бы всю государственную собственность в ходе номенклатурной приватизации без государственного регулирования этого процесса. Однако Е. Ясин вынужден был признать, что «борьба против номенклатурной приватизации вылилась лишь в то, что в дележе приняли участие не только менеджеры и номенклатура, но и новые предприниматели. Реформаторы очень старались, чтобы последние преуспели. В конечном итоге приватизированные активы достались в основном этим двум группам. Они и участвовали в дальнейшем переделе. Для будущей эффективности экономики это было совсем неплохо. Но популярности реформаторам, особенно после широковещательных деклараций о народной приватизации, не прибавило». Среди новых предпринимателей значительную прослойку составили боссы криминального мира, которые оказались ближе реформаторам в социальном плане, чем представители номенклатуры. Невольно возникает ассоциация с одним из наиболее постыдных фактов советского прошлого, когда администрация лагерей рассматривала уголовников в качестве социально близкого контингента в противоположность заключенным, осужденным по 58 статье, среди которых было немало коммунистов, попавших под репрессии 30-х годов.
Реформаторы пытаются оправдаться, ссылаясь на то, что первоначальное накопление капитала в других странах часто происходило если не противоправно, то вопреки нормам морали. Они указывают на пример Америки, где капитал семейства Морганов изначально формировался пиратскими грабежами их прапрадеда. Развитие институтов рынка, конкуренция, совершенствование законодательства облагородили нравы европейских стран и США… Но на обретение бизнес-сообществом этого понимания ушли многие десятилетия. Ю Болдырев, возглавлявший в начале 90-х годов Счетную палату России, в одном из своих интервью много лет спустя подчеркнул, что «все приводимые в оправдание бандитского характера приватизации сказки о том, что «государства не было», что власть никто не слушал и тому подобное — ложь. Как человек, курировавший и глав администрации регионов, и представителей президента в них, на множестве примеров могу утверждать, что рычагов было более чем достаточно, хватало лишь намека на недовольство главы государства, одной лишь выраженной воли власти, и все строились, буквально, по стойке «смирно». Все, что внятно приказывалось — исполнялось, но в воле власти этой внятности было недостаточно. Затем и вовсе пошло покровительство прямому разграблению страны».
Для оправдания бандитского характера приватизации Филиппов и Берман ссылаются и на популярную в современной экономической мысли на Западе теорию Й. Шумпетера о благотворной роли так называемого «созидательного разрушения». По их утверждению, оказывается, «реформаторы, руководившие приватизацией, не питали иллюзий относительно эффективности структуры собственности на ее ранних этапах. Задача стояла шире: не столько провести реструктуризацию предприятий, сколько облегчить уход с рынка устаревших предприятий и появление на рынке новых фирм… Формы подобного разрушения могли быть разными, но непременно при жестких бюджетных ограничениях и проведении процедуры банкротства как окончательного вердикта о судьбе предприятия. Даже в тех случаях, когда компании избегали банкротств, они были вынуждены продавать неиспользуемые активы, создавая тем самым рынок активов и закладывая основу новых предприятий». Вообщем, почти как в Интернационале -весь мир насилья мы разрушим, а затем, мы свой, мы новый мир построим. «Нового мира» что-то не видно, а вот почти полная деградация производительных сил страны — это цена, которую пришлось заплатить за воссоздание новых, точнее старых, дореволюционных производственных отношений.
В завершение следует отметить, что реформаторы ошиблись в оценке «невидимости руки» рынка. Ее приход ознаменовался масштабными изменениями во внешнем облике Москвы и лругих крупных городов России. Они превратились в сплошное торжище с рекламой, подражающей западным образцам и заполонившей даже крыши и фасады жилых домов на центральных улицах. Вечером в центре Москвы при виде сплошных неоновых огней с рекламой зарубежных брендов возникало чувство, что идешь по какой-то западноевропейской столице. И потом заимствованное из испанского языка словечко «Плаза», которое присутствовало в названиях многих торговых и сервисных центров. Наряду с бутиками, ресторанами и кафе на московских улицах обосновались бесчисленные филиалы сотен частных банков и.., как это не странно, множество аптек.
Менялся и вид публики на московских улицах и рынках — все привольнее себя чувствовали скинхеды, баркашовцы и уголовная братва. Летом после начала ваучерной приватизации на улицах, в подземных переходах и вестибюлях метро бросались в глаза унылые бомжеватые фигуры, державшие листы картона с объявлениями «Куплю ваучеры». В нескольких местах Москвы, в частности на Пушкинской площади возникли своего рода «Гайд парки», где ежедневно с утра и до вечера витийствовали русские «патриоты», а слушателям раздавали газетки и брошюры откровенно антисемитского характера. Впрочем, откровенный антисемитизм появился на страницах солидных государственных изданий.
Кампанию возглавил «Военно-исторический журнал», провозгласивший в одном из номеров 1989 года: «…Отдельные исключительные случаи храбрости, доблести и верности долгу евреев, не могут искупить вреда, причиняемого армии большинством их…». Принадлежат эти слова редактору журнала генерал – майору Н. Филатову, который в конце 1990 года начал публикацию выбранных мест из «Майн Кампф» Адольфа Гилера. Когда же, под нажимом наиболее сознательного офицерства, пришлось ее прекратить, он опубликовал «Протоколы Сионских мудрецов». В одном из последних номеров 1990 года, скрупулезно перечислены были фамилии 264 евреев, от командарма до комбрига, имевших эти звания в 1936 году. И вывод: вот они – то и развалили Красную Армию перед войной. Не Сталин ее обезглавил, а евреи. А о том, что почти поголовно этих евреев — военачальников истребили в 37 – 40 годах – ни слова.
Таких публикаций было немало не только в армейских, но и во многих цивильных органах печати, — от «Молодой гвардии» до «Русского клича» — развязавших под крылом «гласности» откровенную антисемитскую пропаганду.
Родина на глазах превращалась в чужую и враждебную страну. Симптомы всеобщего развала становились все заметнее и в институте Рудика. Какие-то признаки жизни в институтских коридорах можно было заметить в дни получки. На смену научным посиделкам пришли жаркие споры о политической и экономической ситуации в России. Некоторые активно включились в работу нарождающихся политических клубов и организаций, другие искали возможность приработка к обесценивающейся зарплате. Немногим сотрудникам «повезло» пристроиться в новых образовательных и исследовательских учреждениях, которые полностью или в значительной мере финансировались из западных источников (при этом использовалась система зарубежных грантов, либо спонсором выступал крупный бизнес). В число таких научных или научно-исследовательских организаций вошли Российская экономическая школа, Национальный исследовательский университет -Высшая школа экономики, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара, Институт экономического анализа, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и многие другие. Причем оклады в этих учреждениях соответствуют западным стандартам, которые недостижимы для большинства отечественных научных и образовательных центров, тем более для Российской академии наук. И эти учреждения создававлись сознательно в противовес РАН. В результате, как справедливо отмечает Р.С. Дзарасов, в России возникла отлаженная система контроля над экономическим образованием и исследованиями, а также над выработкой основ экономической политики со стороны ангажированных научно-образовательных учреждений.. Поэтому эти организации, по мнению автора, по существу, руководствуются интересами прозападного экономического лобби, влияние которого основывается на скрытой, но эффективной поддержке со стороны правящих кругов Запада, чем, в значительной мере, объясняется продолжение неолиберального экономического курса политического руководства России. Подготовка кадров в этих организациях ведется с определенными целями — поддержания и укрепления социально-экономического строя периферийного капитализма.
Г. Батыгин приводил интересные факты о роли зарубежных и российских фондов, ирающих важную роль в реорганизации системы высшего образования по западным стандартам. По его оценке, в стране действовало не менее 150 фондов, финансирующих научные исследования, но большинство из них — здесь нужно проявить аккуратность в терминах — непрозрачны. Во всяком случае, без специальных усилий нельзя установить, каких исследователей они финансируют и в каком объеме. Назовем такие фонды «самореферентными» и оставим их без обсуждения. В определенной степени прозрачны лишь несколько институций, занимающих лидирующее место на открытом «рынке грантов» в области социальных наук. Речь идет преимущественно о локальных российских фондах, хотя они вместе с зарубежными фондами образуют универсальное мировое «грантовое пространство». Можно более или менее уверенно оперировать сведениями о фонде Дж. Сороса (основан в 1992 г. с первоначальным бюджетом 100 млн долларов, сейчас фонд называется Институт «Открытое общество»), Московском общественном научном фонде, Восточно-Европейском университете, Российском гуманитарном научном фонде, Российском фонде фундаментальных исследований, фонде Дж. и К. Макартуров, фонде Карнеги, фонде Форда, фонде Евразия, образовательной программе Европейского сообщества «Темпус/Тасис», Национальном фонде подготовки кадров (организации, распределяющей инвестиции Международного банка реконструкции и развития в российскую систему образования). Доля этих институций на рынке грантов в России относительно общих объемов затрат на науку и образование невелика, однако известность и авторитет позволяют считать их наиболее влиятельными инвесторами в интеллектуальные инновации.
Но вернемся к Рудику. Он был далек от мира «новых русских». Никто из его сослуживцев, близких и шапочных знакомых не стал миллионером. Даже Миша Гарт, который в советские времена в ИМРД имел репутацию «птицы высокого полета» в мире теневого бизнеса, поскольку мог достать все, что угодно и для кого угодно, вплоть до дочки Брежнева, и дать сто очков вперед герою фильма «Прохиндиада», не стал «владельцем заводов, газет, пароходов». Плачевно закончился и бизнес Виктора Кокорева. Он сделал ставку на свои связи в Верховном Совете России и был уверен, что в конфликте Ельцина с Верховным Советом Ельцин проиграет. Но проиграли российский Верховный Совет и вместе с ним Кокорев. «Ризальт-2» канул в Лету, следы Кокорева затерялись. «А ведь так хорошо начиналось», как говорил Бывалов в фильме «Волга-Волга». Не «вписался» в рынок и брат Рудика, который в советское время, будучи директором книжного магазина, был «уважаемым» человеком. В эпоху книжного дефицита у него был широкий круг знакомств, но весь приобретенный им в эти годы капитал был представлен домашней библиотекой. Этого было мало для того, чтобы создать успешный бизнес в новых условиях.
Единственным представителем нуворишей, с которым пришлось иметь дело Рудику, был покупатель его квартиры, менеджер среднего звена какой-то частной нефтяной компании. Пожалуй, до «Нового русского» он не дотягивал, скорее его можно было отнести по классификации западных социологов к «высшему среднему классу». Он приехал из Сибири и искал в Москве сравнительно скромную квартиру. На обеих встречах его сопровождали два массивных молчаливых амбала, сверливших Рудика, мягко говоря, недружелюбными взглядами. Но все обошлось без эксцессов и обмана, покупатель перевел деньги в Израиль на счет сына. Круг общения Рудика в последние месяцы жизни в России стремительно сжимался, все его знакомые были озабочены своими проблемами. Ушли в прошлое семейные и дружеские посиделки за столами с обилием яств — традиционное московское гостеприимство стало не по карману, в чем было неудобно признаваться.
В последние полтора года перед отъездом в Израиль Рудик все больше переключался на неизбежные хлопоты — оформление различных документов, продажу квартиры, распродажу и раздачу имущества и книг, с которыми расставаться было особенно жалко. В январе 1992 г. сын Рудика поехал на семинар в Израиле и упоминавшийся уже профессор Ш. Редлих предложил ему остаться и поступать в докторантуру в университете им. Бен-Гуриона. Так сын стал «невозвращенцем», однако этот поступок уже не имел столь драматических последствий в начале 90-х годов, как это было в прошлом. В августе в Израиль по молодежной программе уехала дочь, и Рудик с женой остались вдвоем, продолжая заниматься еще незавершенными делами родителей Рудика и своими хлопотами.
Однако Рудик успел последний раз «похулиганить» на академической «тусовке» в августе 1992 года. В Москве проходил 10-й Всемирный конгресс международной экономической ассоциации, организованный при активном участии академика А. Аганбегяна. Незадолго до конгресса Рудик написал для Тимофеева справку о латентной безработице в России. Попался интересный материал, Рудик добавил к нему свои комментарии и Тимофеев решил представить эту справку в виде сообщения на заседании секции Конгресса, на которой рассматривались проблемы экономических реформ в России. Как это часто бывает на таких мероприятиях, докладчики не укладывались в регламент и Рудика предупредили, что он должен уложиться в несколько минут. Рудик разозлился — ну что можно сказать за несколько минут? Незадолго до этого выступавший американский экономист весьма оригинально делился со слушателями своими представлениями о происшедших в мире изменениях. Он быстро читал свой текст, временами поднимая голову и истерически крича: «Коммунизм мертв!» В президиуме во главе с Аганбегяном никто на это выступление не отреагировал, и Рудик, выйдя на трибуну, отложил текст своего сообщения и дал отпор очередному могильщику коммунизма. Обращаясь к американскому коллеге, он сказал, что коммунизм хоронят чуть ли не с момента публикации Коммунистичского манифеста Маркса и Энгельса и вероятно будут «хоронить» еще много лет. Аганбегян в президиуме заерзал и изменился в лице — Рудик явно портил ему торжественную обедню, которая должна была завершиться после окончания Конгресса избранием Аганбегяна вице — президентом международной экономической ассоциации. Но Рудик на этом не остановился. Он подверг критике российских реформаторов, которые игнорируют неизбежное при реализации их варианта реформ обнищание народных масс. Само определение этих реформ как «шоковой терапии» — своего рода издевательство. В терапии шоком лечат только психических больных, а в других случаях шок сопровождает только хирургическое вмешательство. Аганбегян в президиуме вообще заколыхался и вынужден был признать, что определение российских реформ как «шоковой терапии» не очень удачно. Затем Рудик отметил, что споры о том, какая модель рыночной экономики -американская или японская — предпочтительнее для России, беспредметны, поскольку в России уже формируется «колумбийская» модель мафиозной экономики. Рудик исчерпал отведенное ему время и был доволен — ему удалось сказать то, о чем не упоминали другие выступающие. К удивлению Рудика Тимофеев не стал его ругать за «отсебятину», впрочем это уже не волновало Рудика, он уже запланировал уход из института в конце года. На предновогоднем собрании отдела, подводя итоги работы за календарный год, Рудик поразил почти всех присутствующих: в завершение своего выступления он стал прощаться с коллегами, пожелав им счастья не только в новом 1993 году,. но и в дальнейшей жизни. Когда Рудик пришел к директору с заявлением об уходе из института в связи с переездом на ПМЖ в Израиль, Тимофеев не выразил особых эмоций, хотя они были знакомы, если включить и годы работы в ИМЭМО, более 30 лет. Тимофеев поинтересовался, есть ли у Рудика договоренность с каким-нибудь израильским университетом и не удивился, услышав отрицательный ответ -он хорошо знал своего непредсказуемого сотрудника. Из вежливости он сказал, что надо подумать, как можно использовать Рудика в качестве корреспондента института в Израиле. Но все это были пустые слова…
Новый 1993 год Рудик встретил в качестве безработного. Ему не надо было думать о выполнении заданий директора, о плановых научных работах, о поездках с лекциями.. Он продолжал наведываться к Кокореву, но и его предупредил о переезде в Израиль. Между тем отъезд откладывался — в начале года отчим поскользнулся, упал и сломал шейку бедра. В его возрасте это было чревато утратой способности ходить вообще. Рудик запаниковал, но все обошлось — кость у отчима срослась, однако время было потеряно. Жена решила не ждать, когда родители Рудика станут «транспортабельны» -ее очень волновала жизнь дочки в незнакомой стране — и она в марте вслед за детьми отправилась в Израиль. А через два месяца Рудик, как «арьергард Великой армии» вместе с родителями не бежал из России, но ее покинул. Последний эпизод, который ему запомнился -это пограничный контроль в аэропорту. Родители прошли без проблем, а у Рудика, несмотря на то, что он вытащил все из карманов, что-то продолжало звенеть. Рудик уже подумал, что самолет может улететь без него, но вернувшийся отчим закричал — это бандаж! Действительно, Рудик совсем забыл, что ему пришлось носить бандаж из-за вылезшей в последние месяцы грыжи. Оперировать ее было некогда, пришлось ограничиться ношением бандажа. Рудик чуть ли не сорвал брюки, чтобы показать виновника звона на своем теле и перевел дух, услышав -«проходи» Это было последнее слово, которое он услышал на российской земле. Позади остались 55 лет жизни — учеба, работа, три монографии, семьи брата и сестры, любимая тетя, приятели и друзья, сослуживцы, страна, которую он объездил до самых ее окраин, посаженные на даче у тестя кусты и деревья и несбывшиеся мечты. Впереди ждало туманное будущее… Рудик уезжал в Израиль без восторга и иллюзий о предстоящей встрече с исторической Родиной. Вероятно при возможности выбора между эмиграцией в Америку и «репатриацией» в Израиль он бы предпочел Америку, как и большинство советских евреев до октября 1989 года, когда под давлением израильского правительства госдепартамент резко сократил квоту для евреев, желающих уехать в США. Так что в августе 1991 года выбора уже не было, тем более, что сын и дочь уже были ориентированы на Израиль. А в своих тайных мечтах Рудик грезил совсем о другом.
Из дневника Рудика
Хочу в Тромсе!
Остап Бендер мечтал о Рио –де-Жанейро, кто-то рвался в пампасы. У Рудика притязания скромнее – Рудик хочет попасть в Тромсе, маленький норвежский городок, где находится самый северный в мире университет. Почему именно в Тромсе – он не знает. Хотя Рудик никогда не был там, но это желание появилось давно. Остапу виделся город на берегу океана, где туземцы в белых штанах гуляют по набережным, а Рудику грезились домики рядом с фиордом, в которых горожане задумчиво смотрят на огонь в каминах, покуривая трубку. Рядом с ними на медвежьих шкурах лежат, положив голову на лапы, большие лохматые собаки. За окнами завывает вьюга, а в гостиной слышны звуки любимых мелодий композитора Нино Рота. Конкретные детали перемещения в Тромсе Рудика не волновали- в мечте они ни к чему. Но один раз он все же решил познакомиться со своей мечтой поближе, благо в Интернете можно найти все, что угодно. Оказалось, что Тромсе совсем не медвежий угол – в нем, кроме университета, есть несколько музеев, а в туристский сезон в городе кипит бурная ночная жизнь в многочисленных пивнушках. Образ Тромсе сразу поблек, но похоронить мечту жалко, какой бы детской, смешной и никчемной она бы не выглядела с точки зрения здравого смысла.
Да, Рудику уже никогда не ставить парус на яхте, не отправлять пушечным ударом мяч на теннисном корте на половину соперника и вряд ли придется подбрасывать поленья в камин.
Но на пике сезона «набедренных повязок», (как Рудик называет самые жаркие дни в Беер Шеве, когда температура в комнате даже в два часа ночи не опускается ниже 32 градусов), и израильской зимой, (когда столбик термометра в квартире не поднимается выше 13 градусов и так хочется сказать – какой «колотун»), невольно вспоминается все тот же камин и летняя прохлада в городе запоздалой мечты – Тромсе.
Иллюстрация:
.