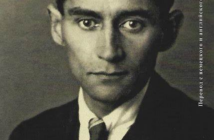Фото: stella-verlag.com
РИММА УЛЬЧИНА
Литературоведение
«Григорий Окунь – академик ИНАРН, учёный, писатель, журналист. (1920-2016)
Доктор филологических наук; специалист по романо-германской и славянской филологии; основные научные интересы — история и закономерности развития всемирной литературы. Исследования Г. Окуня опубликованы в изданиях Московского и Ташкентского университетов, а также в научных изданиях стран Европы (Венгрия, Болгария. Франция).
Печатаясь с 1940 года, Г.Окунь опубликовал несколько повестей и мемуары посвящённые его встречам с выдающимся американским драматургом Артуром Миллером («Все мои сыновья», «Смерть коммивояжёра», «После грехопадения», «Цена» и др.), с известным американским прозаиком Митчеллом Уилсоном («Жизнь во мгле», «Брат мой, враг мой», «Встреча на далёком меридиане» и др.), с французским писателем Пьером Гамарра (романы «Сады Аллаха», «Пиренейская рапсодия», «Убийце Гонкуровская премия», «Тулузские тайны», «Золото и кровь» и др.), с Сергеем Эйзенштейном в пору его работы над фильмом «Бежин луг» и с Константином Симоновым во время его пребывания в Ташкенте.
В годы Великой Отечественной — военный журналист, автор военных повестей «Когда молчат музы», «Последняя граница», «Тайна Нины Гуль», «Momento patriam». После войны вместе с группой московских ученых участвовал в создании первого высшего театрального учебного заведения в Средней Азии – ГИТИСа им. А.Н.Островского (Ташкент), читал в нем курсы истории литератур и теории драмы (1947 – 1959). Был главным редактором ежегодника «Научных трудов» новообразованного вуза.
С 1959 в течении тридцати лет вплоть до репатриации в Израиль — преподавал на кафедре истории зарубежной литературы филологического факультета Ташкентского университета. Многие годы был заведующим кафедрой и научным руководителем аспирантуры. Под его научным руководством двадцать аспирантов и соискателей защитили диссертации по романо-германской филологии и им были присвоены ученые степени. С 1960 по 1989гг. Г.Окунь — главный редактор ежегодного университетского сборника научных трудов «Филологические науки. История зарубежной литературы».
Г. Окунь – организатор и участник международных конференций по вопросам литературных связей Восточной Европы и СССР; читал курсы лекций в Будапештском и Софийском университетах. Г.Окунь – многолетний руководитель секции ежегодных Международных конференций американистов при Московском государственном университете (1977 – 1989).
В Израиле с 1989 года. Был первым главным редактором всеизраильского художественно-публицистического еженедельника на русском языке «Эхо». В настоящее время руководитель отделения «Интеллект и творчество» Института интеллектуальных технологий, главный редактор «Ученых записок» ИИТ (Ашдод).
Фото: teleor.net
В последние годы Г.Окунь много внимания уделяет малоизученным страницам истории мировой литературы. Так, после литературного вояжа в Венецию, Феррар и Флоренцию, он опубликовал работу «В поисках «неведомого шедевра» Ариосто и Рафаэля», проливающую свет на утерянные материалы постановки единственной неопубликованной трагедии Ариосто «Франческа» в Венецианском театре «Ла Фениче» с участием Рафаэля в качестве художника спектакля.
С 2004 (по 2014) года Г.Окунь – главный редактор израильского журнала «Русское литературное эхо».
С 2007 года главный редактор научно-популярного журнала «Мысль» и «Наука». В 2008 году Г.Б.Окуню присвоено звание академика Израильской Академии Развития Наук.
Когда вышла моя первая книга «Мистический роман» Борис Григорьевич часто беседовал со мной о литературе. Информация была настолько ценной, что я решила все это записать. Работая над своими следующими произведениями, я часто перечитываю эти записи. И решила их опубликовать, справедливо считая, что они могут быть ценными не только для меня.
Об авторе: РИММА УЛЬЧИНА, член Союза русскоязычных писателей Израиля, член Международной гильдии писателей (МГП), кандидат в члены Интернационального союза писателей (СПИ), лауреат конкурса «Человек года – 2011» в Ашдоде (удостоена специального приза «Золотое перо» за серию статей «Визави» с известными людьми и общественными деятелями). Автор саги «Мистический роман» (2006), дополненной, переизданной в Германии – «Мистический роман, или Заложница кармы» (2017), эзотерического романа «Береника, или Прыжок во времени», фантастического романа «Послание небес, или Нереальный детектив», многих современных повестей, рассказов, эссе.
НА КОЛЛОКВИУМЕ С ГРИГОРИЕМ ОКУНЕМ
Статья 1.
ОСНОВЫ И ФУНКЦИИ РОМАНА
Традиционная формулировка гласит: роман – это эпическое произведение, в котором повествование сосредоточенно на судьбе отдельной личности в процессе ее становления и развития, развернутом в художественном пространстве и времени, достаточном для передачи «организации» личности. Являясь эпосом частной жизни, изображением чувств, страстей, событий и внутренней жизни людей, роман представляет индивидуальную и общественную жизнь как относительно самостоятельные, не исчерпывающие и не поглощающие друг друга стихии, и в этом состоит определяющая особенность его жанрового содержания.
С кризисом нашей действительности связана судьба романа как жанра.
Роман можно сравнить с большой оркестровой симфонией. Симфония и в самом деле эпическая сестра романа в музыке. Благодаря Бетховену симфония опередила свое время на двести лет, ворвавшись в наше сегодня. Созданная им техника композиции предвосхитила и положила начало всему последующему развитию. Однако Бетховен не разрушил форму: он лишь показал, что в ней заложено.
В области романа такой революции не было, и поэтому, сравнивая роман с симфонией, невозможно отрицать, что его отличает некая техническая отсталость. Только новые технические средства способны отстоять искусство, — те средства, которые возникают под давлением необходимости, когда старые уже отжили свое.
И все же роман – термин, не поддающийся определению. Французское слово роман связанно с игрой слов, не передаваемой на другом языке. В капитальном труде Эмиля Литтре (1801-1881), французского филолога, «Словарь французского языка» (Dictionnatre de Iankue franсaise) этот термин определяется так: «Роман (roman) – существительное мужского рода. Означает: 1. Повествование подлинное или вымышленное, написанное стихами либо прозой на старом (романском) языке.
2 Вымышленная история, написанная прозой, в которой автор стремится возбудить интерес, изображая страсти, нравы или необычайные приключения.
Современные словари не исправляют эти определения. В последнем издании Ларусса читаем: «Роман. В прошлом: повествование правдивое или вымышленное, в прозе или в стихах, написанное на романском языке. В настоящее время: вымышленное произведение в прозе, рассказывающее о вымышленных событиях, придуманных и расположенных так, чтобы заинтересовать читателя».
Слово roman начало появляться во Франции в заглавиях литературных произведений в 19 веке и в переводе на современный язык означало «по-французски» (по своему происхождению roman — наречие, подобно латинскому romanice, и означало «по-романски», «на романском языке». Существительное появляется лишь позднее.
Литтре и впрямь был обескуражен, что в 12 веке слово роман имело несколько значений, и тем, что трудно хронологически последовательно проследить развитие употребления этого термина.
Тем не менее с самого своего возникновения, около1150 года, роман обладает несколькими для него чертами: он рисует необычайные приключения, чаще всего связанные мотивом поисков и изобилующие любовными интригами; в нем наблюдается заметная тенденция объяснить действия психологическими причинами; внутреннее единство романа достигается чаще всего композиционными приемами, в которых решающее значение имеют количественные пропорции, тематические связи, а не закономерности развития действия; роман отличает тщательно отработанная форма.
Такое определение первых романов позволяет понять, как возник на их основе современный роман, даже если он решительно от них отличен и между ними нет прямой исторической преемственности, — более того, — если связь между ними была нарушена.
Прошло три четверти века, прежде чем возник роман в прозе, лучше передающий сложность жизненных перипетий, выражать их точнее и более развернуто. Романисты средних веков ошибались при описании нарядов, но не человеческих чувств. Они искали у античных авторов не архаические «куски жизни», а вечные истории, достоверные не только в прошлом, но и сегодня. Наши романисты немало черпают из произведений Вергилия, Стация, Овидия. Античная мудрость позволяет авторам романов лучше постигать и лучше изображать мир, где им в череде поколений привелось жить.
Для большинства любителей чтения и критиков роман – это прежде всего рассказанная в нем «история». Истинный романист – человек, умеющий «рассказать историю». В самом удовольствии от рассказывания, побуждающем писателя пройти весь путь от начала до конца книги, как бы воплощено его писательское призвание. Придумывание захватывающих, волнующих, драматических перипетий – вот что доставляет ему радость и служит его оправданием.
Критический разбор романа нередко сводится к пересказу сюжета с более или менее пространным изложением основных эпизодов – завязки и развязки интриги. Высказать критическое суждение о книге – значит оценить в ней внутреннюю связность и особенности развития интриги, ее сбалансированность, сюжетные ожидания и неожиданности, которые автор подстраивает нетерпеливому читателю. Разрыв в повествовании, неудачно введенный эпизод, утрата интереса к событиям, топтание на месте окажутся важным недостатком книги, а живость и гладкость изложения – ее важнейшими достоинствами. Сутью романа, его смыслом, его нутром окажется всего-навсего рассказанная в нем история.
Чтобы придать сюжету весомость, которой обладает всякая человеческая истина, романист обязан убедить читателя, что рассказанные приключения действительно случились с реальными людьми и что писатель ограничивается простым изложением, пересказом событий, свидетелем которых он оказался. Между автором и читателем возникает молчаливое соглашение: автор делает вид, будто верит в то, о чем рассказывает, читатель же как бы забывает, что рассказ этот выдуман, притворяется, что имеет дело с подлинным документом, с чьей-то биографией, с реально пережитой кем-то историей.
Событийные повороты, повествование должно развиваться плавно, как бы само по себе, под напором неодолимого порыва, раз и навсегда увлекающего читателя. Роман должен не просто развлекать, он обязан внушать доверие.
Романическая субстанция должна казаться неисчерпаемой, правдоподобной, способной к быстрому развитию, должна выглядеть естественной. Все технические приемы повествования – систематическое употребление простого прошедшего времени и третьего лица, безусловное требование хронологического порядка в изложении событий, линейность интриги, ровная траектория эмоционального развития, тяготение каждого эпизода к своему завершению – все здесь направленно к созданию образа устойчивого, внутренне связанного и последовательного, однозначного, поддающегося расшифровке мира.
История романа свидетельствует: произведение этого жанра могло развиваться только в обществе, где равновесие между человеком и обществом потеряно. Считается, что роман не может обладать завершенной жанровой формой, потому что он эпос настоящего, поскольку для него важен существенный контакт с переживающей становление действительностью, с ее постоянной переоценкой и переосмыслением… Роман не терпит жесткой регламентации, не имеет канона. Романы различны по тематике. Различают романы любовные, семейно-бытовые, социально – политические, философские, исторические, биографические, фантастические, мистические. Романы различны по объему, и по степени драматизации сюжета, и по композиционно-сюжетным принципам. Столь же многообразны романы и по способам повествования (романы в письмах, дневниках, диалогической форме) и по принципам организации авторской речи (редко стихотворной, обычно прозаической). Интрига становится средством отражения конфликта между личностью и обществом, превращается в силу, дающую толчок целенаправленным действиям героя, драматизируя повествование. Роман вплетает в сквозное действие сцены и эпизоды, рисующие нравы, быт общества целой эпохи.
Оноре Бальзак, например, в цикле романов под общим заглавием «Человеческая комедия» (1829-1848 гг.) изображает судьбу личности, разрешающейся ее духовной гибелью — борьба за свое самоутверждение перерастает в беспредельный эгоизм и гедонизм (неограниченное стремление к наслаждению и бегство от страдания), поглощающие интеллектуальное и нравственное достояние человека.
В современном романе наблюдается взаимопроникновение разных родов искусства, возникают новые видовые и жанровые сочетания, происходит интеллектуализация романа – развитие и противоборство идей, понятий становится движущей силой сюжета.
В заключение приводим выдержки из рассказа американской писательницы Эллен Глазгоу (1873-1945) о том, как она работала над романом: «Когда я работаю над романом, то нахожусь или стараюсь быть в состоянии абсолютной сосредоточенности. Все время в моем сознании присутствуют воображаемые обстоятельства, в которых совершается действие, я почти постоянно думаю о своих героях. Я живу с ними день за днем, они для меня — более реальные существа, чем знакомые мне люди из плоти и крови. Их слова кишат передо мной, мешая схватить единственно верное из них, не давая уловить точный ритм, нужный тон и оттенок. Однако интуиция, а возможно, просто вспышка натренированной памяти, снова приходит мне на помощь. Бывало, я часами страдаю в поисках самого нужного, точного слова или фразы и, отчаявшись, бросаю свои попытки, а затем, словно от толчка, просыпаюсь ночью, потому что это слово или фраза стремительно призывают мое дремлющее сознание.
Тем не менее именно тщательное переписывание (бесконечная чистка и полировка во имя выразительного и гибкого стиля) дает писателю величайшее наслаждение, несмотря на всю монотонность и нудность занятия. Смею сказать, каждый литератор-профессионал, уважающий свой труд, чувствует то же, что и я, его ум не может снискать покоя и отдохновения, пока, сначала, он не уловит нужную атмосферу повествования, а затем – это единственное слово. Хотя у моих героев могут вдруг объявляться странные черты характера, хотя они подчас совершают поступки, на которые я считала их неспособными, хотя эпизоды в романе могут поменяться местами и возникнуть новые коллизии, не предусмотренные развитием действия, все же как неподвижная, одинокая звезда над хаосом созидания сверкает конец…Никогда в жизни я не написала первой строки, не зная, каким будет последнее слово. Иногда я много раз переписываю начало, а порой книга, не очень большая, складывается сразу, прежде чем перо коснется бумаги, словно силой внутренней энергии.
Оценивая итоги любого действия, мы всегда спрашиваем себя, а стоило ли оно затраченных усилий. Да, я считаю, что писательский труд этих усилий стоит. Долгий и терпеливый труд дает мне право это утверждать. Я писала, повинуясь только собственному суду, но этот внутренний критический голос всегда звал к недосягаемо высокой цели.
Если попробовать изложить мои три принципа как один писательский метод, они будут таковы:
1) Всегда жди, пока не почувствуешь, что весеннее половодье переполняет тебя. Тогда начинай книгу.
2) Всегда храни, как святая святых, недоступным другим мир своего воображения.
3) Всегда по возможности глубже старайся проникнуть в жизнь с обеих сторон, но пусть внутренне зрение, этот беспристрастный, не уклоняющийся в сторону мысленный взор, этот свет разума будет неподвластен никаким влияниям».
Иллюстрация: maxpark.com