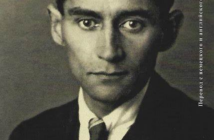etvnet.com
Автор: Борис Дубсон, Ph.D. in Economical.
Перестройка: «Время несбывшихся надежд».
Однажды в подмосковном пансионате академии, где отдыхал Рудик, в беседе с ним во время вечерней прогулки сотрудник ЦК партии в порыве откровенности так определил генеральный курс брежневского руководства: «кораблик (страна) плывет себе и плывет, и не надо его раскачивать». В ИМЭМО рассказывали, что когда директор Института Иноземцев приходил на прием к Брежневу с очередным аналитическим докладом, подготовленным его сотрудниками, в котором говорилось о растущем отставании СССР от развитых капиталистических стран Брежнев отвечал ему, что другие академики оценивают ситуацию иначе, так что «иди, поработайте еще». Взбешенный Иноземцев возвращался в институт и устраивал выволочку ни в чем не повинным сотрудникам.
Ну а что можно было ожидать от Брежнева, который был типичным представителем посредственностей в окружении Хрущева? Как отметил российский социолог З.И. Файнбург, «люди, выдвигавшие Брежнева на смену Хрущеву, из своего круга выбрали наиболее «уравновешенную» посредственность: не новатор, не демократ, но и не экстремист, покладистый, не злобный, поддающийся влияниям, но не чересчур уж слабохарактерный» (З. И. Файнбург. Не сотвори себе кумира… Социализм и культ личности.,с.274-275)
Однако от обостряющихся проблем невозможно было отмахиваться вечно. И страна была, мягко говоря удивлена, услышав от Ю. В. Андропова в 1983 году, что оказывается, «если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические. Поэтому порой вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, методом проб и ошибок».
К несчастью для страны этот метод проб и ошибок превалировал в политике партийного руководства и в последние годы существования СССР
Необходимость перемен в середине 80х годов была очевидна. Снижение темпов экономического роста, все более очевидное отставание от развитых стран по важным направлениям научно — технического прогресса и, самое главное, растущее недовольство советских граждан, которые не могли приобрести базисный набор товаров, хотя им еще в 60-е годы пообещали, что через двадцать лет они будут жить в коммунистическом обществе, (где будет реализован принцип «каждому по потребностям»), и ряд других сопутствовавших эпохе застоя негативных явлений требовали принятия неотложных мер.
О товарном дефиците в советские времена написано и сказано много. Излюбленные кадры кинохроники, которые показывают сейчас во многих передачах — абсолютно пустые полки продуктовых магазинов — откровенно шулерский прием. Когда нам показывают в качестве хроники «безумного совкового режима» толпы потерянных людей перед пустыми прилавками, надо помнить: в основном они сняты во второй половине октября, ноябре и декабре 1991-го года. 18 октября 1991 года Гайдар и Шохин объявили о либерализации цен со 2 января следующего года К концу пресс-конференции регулярной торговли уже не было: торговцы спрятали последние товары, еще лежавшие на прилавках, до освобождения цен.
Но товарный дефицит определял повседневную жизнь советских людей задолго до этих событий. Рудику на всю жизнь запомнился визит гостей из Тбилиси, соседей родителей по подъезду в середине 60-х годов. Глава семьи, Гиви, был начальником республиканской оптовой книжной базы и был причастен к определению тиражей книг грузинских писателей. По его хвастливому утверждению, все грузинские писатели были у него «в кулаке» Для большей убедительности он продемонстрировал свой кулак приличных размеров. Естественно, что писатели делились с Гиви своими гонорарами, обеспечивая ему безбедную жизнь. В Москву он приехал с единственной целью приобрести импортный мебельный гарнитур и был в полной уверенности, что в Москве это сделать проще, чем в Тбилиси. На следующий день после приезда Гиви с женой и Рудиком отправился в поход по мебельным магазинам. Импортная мебель была в большом дефиците, но это не смущало Гиви. В первом же магазине он в сопровождении Рудика сразу же направился в кабинет директора, которому изложил свои пожелания. Директор сказал, что при всем желании он ничем помочь Гиви не может, импортной мебели у него нет даже на складе. Гиви в ответ произнес лишь одно слово: «Сколько»? Директор вновь ответил вежливым отказом, Гиви вновь произнес, как ему казалось, волшебное слово, но оно не помогло. В нескольких других магазинах повторилась та же история. Рудика, мягко говоря, коробило от бесцеремонности своего гостя, и на следующий день, сославшись на неотложные дела, он оставил Гиви одного с его проблемами. На третий день Гиви приобрел дефицитный гарнитур, в каком-то из магазинов волшебное слово сработало.
Как отметил один из бытописателей советской эпохи, в 70е годы прошлого века была распространена мода на книги, хрусталь и фарфор. В книжных магазинах случались давки за очередным переизданием «Сестры Керри» Драйзера или «Братьев Карамазовых» Достоевского. Правда, книги в красивых твердых переплетах покупали в основном для того, чтобы заполнять дефицитные же «стенки» (мебельные гарнитуры), придавая им «престижный вид». Зачастую дефицит имел конкретное название – модно было иметь дома товар какого-то конкретного производителя – так, в промтоварных магазинах охотились именно за чешским хрусталем, гэдээровским сервизом «Мадонна» или люстрой «Каскад» с псевдохрустальными висюльками.
Вторая категория дефицита – разного рода импортные «излишества», символы, как ее называли тогда, «красивой жизни». Джинсы, импортная аудиотехника, кожаные изделия. Произведенные на Западе товары в силу своей недоступности и хорошего качества фетишизировались. Товарный фетишизм доходил до полного бреда — советские мещане заполняли свои серванты пустыми, но красивыми бутылками из-под виски, жестяными пепси-кольными банками и опустошенными сигаретными пачками марки Мальборо. Эти артефакты в лучших «туземных» традициях с благоговением демонстрировались родственникам и друзьям, которые зачастую не только рассматривали их, но и обнюхивали.
Приобретение различных товаров превращалось в их «добывание», причем этот процесс затронул не только дефицитные импортные тряпки и обувь, но и отечественные товары. Дошло до смешного – даже туалетная бумага стала «дефицитом», что стало объектом насмешек в одном из скетчей Хазанова. Однако самыми тягостными в этом процессе были повседневные проблемы добывания «хлеба насущного», точнее мясопродуктов. В магазинах толпились огромные очереди приезжих из всех прилегающих к Москве областей. Рудику запомнился эпизод из его поездки с лекциями в Владимирскую область. Поезд, на котором Рудик возвращался из командировки, прибыл в Москву на Казанский вокзал ранним утром, задолго до открытия продуктовых магазинов. Но попутчики Рудика ринулись на платформу, чуть ли не сбивая друг друга с ног. Удивленный Рудик был ошарашен и спросил пробегающих мимо пассажиров, куда они бегут, ведь все еще закрыто? На него посмотрели как на придурка и кто-то на бегу объяснил Рудику, что надо занять ячейки в камере хранения на вокзале, их на всех желающих не хватит. В течение дня приезжие несколько раз после удачных походов по московским магазинам пополняли свои запасы в ячейках вокзала и с огромными сумками и рюкзаками возвращались вечером домой на поездах и электричках.
Но не все советские люди были включены в этот процесс добывания хлеба насущного. Писатели, актеры, ученые, руководители предприятий, отраслевые управленцы, партийные и комсомольские функционеры имели свои спецмагазины и спецпайки. К борьбе с дефицитом подключались профсоюзы, снабжавшие родные коллективы сгущенкой, тушенкой, колбаской и шпротами – по красным дням календаря, а еще и марокканскими мандаринами и шоколадными конфетами – под Новый год и к «октябрьскому празднику» Не имели проблем и обладатели полезных связей в мире торговли и не столь уж узкий круг людей, уровень доходов которых позволял им приобретать товары на так называемых колхозных рынках. Спрос на овощи в крупных городах в какой-то мере удовлетворялся за счет «собирательства» на собственных дачных участках.
Товарный дефицит породил и важный для судеб страны социальный феномен — появление слоя подпольных миллионеров, которые были причастны к распределению товаров и сфере теневой экономики.. Это были не продавцы в комиссионных магазинах, одного из которых Рязанов изобразил в фильме «Берегись автомобиля» и не «уважаемые люди» — директора и товароведы» -герои скетча Райкина. Эти персонажи были всего лишь мелкой, хотя и довольно многочисленной, рыбешкой. Но и подпольных миллионеров было немало.
Стремительный уход из жизни представителей кремлевской геронтократии в первой половине 80-х годов порождал в обществе смутные надежды на предстоящие в недалеком будущем позитивные перемены. Рудик, как и большинство его коллег в институте, поздравляли друг друга, услышав по радио сообщение об избрании М. Горбачева генеральным секретарем КПСС. Поначалу казалось, что новый молодой лидер, говоривший без бумажки, охотно общавшийся в поездках с простыми людьми, провозгласивший гласность как одну из главных целей перемен, хорошо представляет, как перестроить общество и, самое главное, экономику. При этом как-то забылось, что предыдущая деятельность Горбачева в качестве секретаря ЦК партии не ознаменовалась заметными достижениями. Он непосредственно отвечал за выполнение принятой в 1982 году «Продовольственной Программы, в рамках которой планировалось к 1990 году увеличить производство продуктов питания в 2,5 раза. По этому поводу шутили, что будем питаться вырезкой из «Продовольственной Программы». Сейчас нет недостатка в уничижительных характеристиках Горбачева Так, Р. Медведев в своей книге «СССР. последние годы жизни. Конец советской империи, опубликованной в 2010 году, отмечает, что «Горбачев мог казаться самородком, в нем был внешний блеск, но не было глубины. Это было не золото настоящего большого самородка, но лишь позолота. Горбачев был очень поверхностен. Прочитав и просмотрев большую часть его выступлений до 1985 г., я не нашел там ни одной оригинальной идеи, мысли, которую можно было бы здесь процитировать. Конечно, это не его вина и даже не его беда. Это неизбежное и естественное следствие всей той кадровой политики и политики вообще, которую на протяжении десятилетий проводила КПСС. Никаких самородков и никаких золотых россыпей образоваться в этой системе не могло. Наиболее ярких и сильных людей, по-настоящему компетентных, думающих и самостоятельных, эта политика и эта система выталкивали и выбрасывали, обрекая на прозябание. В такой системе Юрий Андропов мог оказаться просто провидцем, а Михаил Горбачев – занять пост главного лидера».
Таким же было и его окружение. Два известных советолога, Питер Рэддуэй и Дмитрий Глинский, оценивая много позже события 1985 г. и деятельность новой команды Горбачева, писали: «За решение общегосударственных задач взялись провинциалы, с малым опытом и ограниченным кругозором. У этих людей не было серьезного опыта государственной деятельности центрального уровня. В этом выразилась неспособность советского руководящего слоя даже в периоды кризиса выдвигать из своих рядов наиболее талантливых представителей, если они вообще там были. У Горбачева и его команды отсутствовала какая-либо продуманная стратегия общественных преобразований. Они лихорадочно брались за одновременное реформирование чуть ли не всех элементов общественной жизни, не задумываясь о последовательности и приоритетности этих реформ. Горбачев, призывая граждан к борьбе с бюрократией, не позаботился о том, чтобы защитить их от возмездия бюрократов. Такое поведение можно оценить лишь как безответственное и провокационное». (Readdaway P., Glinsky Di. The Tragedy of Russia» s Reform. Market Bolshevism against Democracy) Единственным человеком, который сразу же разобрался в движущих мотивах поведения Горбачева, была Маргарет Тетчер. После четырехчасовой беседы с ним во время визита Горбачева в Англию еще до его избрания генеральным секретарем КПСС, она сказала, что с этим человеком можно иметь дело. Вероятно, благодаря недюжинному уму и женской интуиции она поняла, что Горбачев мечтает войти на равных в круг западной элиты, а не противостоять ему. Что касается приведенных выше оценок, то, как говорится, все задним умом крепки. А советскому народу пришлось сполна испить чашу очередного проводимого над ним эксперимента.
К реформам новое руководство приступило немедленно. Сначала Горбачев и его сподвижники в политбюро занялись борьбой с пьянством.
Уже через месяц после прихода к власти нового руководства были приняты Постановления ЦК КПСС и Совмина СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма», которыми предписывалось всем партийным, административным и правоохранительным органам усилить борьбу с пьянством и алкоголизмом, причём предусматривалось значительное сокращение производства алкогольных напитков, числа мест их продажи и времени продажи. Исполнение было беспрецедентным по масштабу. Государство впервые пошло на снижение доходов от алкоголя, которые были значимой статьёй государственного бюджета, и стало резко сокращать его производство. Магазинам, в которых продавалось спиртное, могли делать это лишь с 14.00 до 19.00. В связи с этим бытовали поговорки «В шесть утра поёт петух, в восемь — Пугачёва, магазин закрыт до двух, ключ — у Горбачёва», «на недельку, до второго, закопаем Горбачёва. Откопаем Брежнева, будем пить по-прежнему».
Были приняты жёсткие меры против распития спиртного в парках и сквериках, а также в поездах дальнего следования. Пойманные в пьяном виде имели серьёзные неприятности на работе. Были запрещены банкеты, связанные с защитой диссертаций, стали пропагандироваться безалкогольные свадьбы. Из фильмов вырезались алкогольные сцены. Вспомнился и фильм «Лимонадный Джо», название которого стало популярной кличкой. В результате прозвища «Лимонадный Джо» и «минеральный секретарь» прочно закрепились за Горбачевым. От членов партии требовали вступления в общество трезвости.
Официально зарегистрированные среднедушевые продажи спиртного в стране за годы антиалкогольной кампании снизились более, чем в 2,5 раза. При этом реальное снижение потребления алкоголя было менее значительным, в основном за счёт развития самогоноварения, а также нелегального производства алкогольной продукции на государственных предприятиях. К уголовной ответственности за самогоноварение в 1985 -1987 гг.. было привлечены сотни тысяч граждан. Усиление самогоноварения привело к дефициту в розничной продаже сырья для самогона —сахара а следом и дешёвых конфет. Существовавший и ранее теневой рынок кустарного алкоголя получил в эти годы значительное развитие — водка пополнила перечень товаров, которые нужно было «доставать». Широко распространилась практика оплаты различных услуг водкой. Несмотря на снижение общего числа отравлений алкоголем, выросло количество отравлений суррогатами и неалкогольными одурманивающими веществами а также увеличилось количество токсикоманов. Тем не менее, рост потребления «нелегального» алкоголя не компенсировал падения потребления алкоголя «легального», в результате чего реальное сокращение общего потребления алкоголя всё-таки наблюдалось, что и объясняет те благотворные последствия (снижение смертности и преступности, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни), которые наблюдались в ходе проведения антиалкогольной кампании.
Но в целом направленная на «моральное оздоровление» советского общества, антиалкогольная кампания в реальности достигла совершенно иных результатов. В массовом сознании она воспринималась как абсурдная антинародная инициатива властей. Для лиц, широко вовлечённых в теневую экономику и партийно-хозяйственной элиты (где застолье со спиртным было номенклатурной традицией) алкоголь по-прежнему был доступен, а «доставать» его были вынуждены рядовые потребители.
Уменьшение продаж алкоголя нанесло серьёзный ущерб советской бюджетной системе. Урон для бюджета оказался неожиданно велик: вместо прежних 60 миллиардов рублей дохода пищевая промышленность принесла 38 миллиардов в 1986 году и 35 миллиардов в 1987-м.
Массовое недовольство кампанией и начавшийся в 1987 году в СССР экономический кризис вынудили советское руководство свернуть борьбу с производством и потреблением алкоголя. По случаю 20-летия антиалкогольной кампании в 2005 году Горбачёв в одном из интервью заметил: «Из-за допущенных ошибок хорошее большое дело закончилось бесславно».
Не менее бесславно заканчивались и все последующие программы, которые пытался претворить в жизнь М. Горбачев. Сразу после прихода к власти он провозгласил лозунг об «ускорении экономического развития», который ему подбросил академик Аганбегян. Концепция «ускорения» на протяжении двух лет уточнялась и детализировалась. Сначала акценты были смещены с количественных параметров на качественные, было заявлено, что при решении задач ускорения речь должна идти не просто о повышении темпов роста народного хозяйства, а «о новом качестве роста, переходе на интенсивные рельсы развития, быстром продвижении вперед на стратегически важных направлениях».
XXVII Съезд КПСС в 1986 г. включил в концепцию ускорения ряд новых положений: коренное обновление материально-технической базы на основе достижений НТР, глубокие перемены во всем: и в содержании труда, и материальных и духовных условиях жизни людей и так далее и тому подобное, все в лучших традициях официальной идеологии.
Но по мере ухудшения экономического положения страны лозунг «ускорения» развития терял свою актуальность. Продолжающееся падение мировых цен на нефть, катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 г. пробили огромную брешь в государственном бюджете, которую покрывали растущей денежной эмиссией.
Чернобыльская катастрофа стала причиной серьезного ущерба для экономики и социальной сферы. В 1986 году было эвакуировано около 116000 лиц, возникла проблема строительства дополнительного жилья для эвакуированных. В 1986-1987 годах для переселенцев было построено приблизительно 15тысяч квартир, общежития, сотни учреждений социальной и культурной сферы. Вместо отселенного города Припять для персонала ЧАЭС построен город Славутич.
Что касается потерь от падения цен на нефть, то по данным справочника «Внешняя торговля СССР» с 1986 по 1990 гг. в результате падения цен на нефть СССР недополучил примерно 12-13 млрд. рублей в валюте.
Не способствовали преодолению экономических проблем шараханья руководства из одной крайности в другую. В начале 1986 г. вышел указ Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с извлечением нетрудовых доходов». А в конце года Верховный Совет СССР принял «Закон об индивидуальной трудовой деятельности». Как показала практика применения этих законов, эта была попытка совместить несовместимое Вместо вытеснения из общества криминально-экономических элементов и легализации индивидуальной трудовой деятельности, криминально-теневая экономика получила новые возможности для интенсивного развития за государственный счет.
Затем последовали постановления правительства, принятые в начале 1987 года, о создании кооперативов по бытовому обслуживанию населения, производству товаров народного потребления и в сфере общественного питания. Поначалу царила эйфория. Поскольку идея получила отмашку с самого верха, действовал принцип: разрешено все, что не запрещено. Патент на открытие кооператива стоил пять рублей, налоги были минимальные: три процента с выручки. Памятуя о том, что деньги не пахнут, наиболее предприимчивые кооператоры стали создавать платные туалеты, в которых было чисто, можно было помыть руки мылом и утереться чистым полотенцем. Впоследствии на месте многих из них возникли частные кафе и магазины. В сфере общепита создание кооперативных ресторанов (наиболее известным из них стал ресторан Федорова на Кропоткинской), сопровождалось закрытием государственных столовых, да и в других отраслях появление кооперативов вело к свертыванию объема услуг, предоставляемых в государственном секторе. Что касается производства ширпотреба, то на первом этапе кооператоры специализировались на производстве «вареных» джинсов, кроссовок а-ля «Адидас», видеокассет, футболок с надписями «А я упрямо люблю «Динамо» и изображениями кота Леопольда и Микки Мауса в цветах советского и американского флагов: «Давайте жить дружно». Вряд ли это производство могло смягчить проблему неудовлетворенного платежеспособного спроса, тем более, что на государственных предприятиях, производящих товары народного потребления, попрежнему наблюдался застой. История сыграла злую шутку — если в капиталистических странах кооперативное движение ассоциируется с социализмом, то в СССР оно являлось предвестником реставрации капитализма. Собственно говоря, между кооперативами, существовавшими в капиталистических странах и их аналогами по названию, появившимися в годы перестройки в СССР, были, как говорят в Одессе, две большие разницы — обследования показали, что в 90% кооперативов в СССР не было пайщиков, соответственно не было общей кооперативной собственности, как это имеет место в кооперативах классического типа. Это были типичные частные предприятия, в основном на теневом капитале или на украденных администрацией государственных средствах.
Кстати, многие нынешние российские мультимиллионеры и миллиардеры начинали свою карьеру в бизнесе в качестве кооператоров. Александр Смоленский начал с организации кооператива по строительству дач и гаражей, а Владимир Гусинский — по выпуску модных медных браслетов, якобы обладавших целебными свойствами. Кооператив Гусинского ежедневно штамповал пятьдесят с лишним тысяч браслетов, которые при себестоимости в три копейки шли по пять рублей.
Тем не менее, первые два года перестройки Горбачев продолжал клясться в приверженности социализму. В 1985 г. он говорил: «Не рынок, не стихийные силы, а прежде всего план должен определять основные стороны развития народного хозяйства». Годом позже Горбачев подчеркивал, что перестройка — это не «дрейф в сторону капитализма» и что «мы будем идти к лучшему социализму, а не в сторону от него… Ожидать, что мы начнем создавать какое-то другое, несоциалистическое общество, перейдем в другой лагерь,— дело бесперспективное и нереалистичное». Насколько он был искренен тогда — вопрос остается открытым. А вот в его ближайшем окружении среди так называемых «архитекторов перестройки» судя по их признаниям через много лет, социалистическую фразеологию использовали в первые годы перестройки для маскировки своих подлинных взглядов и целей. Наиболее «выдающимся», если можно так охарактеризовать идеологического оборотня, среди них был секретарь ЦК по вопросам идеологии А. Яковлев. Рудику нравились его статьи конца 70-х и начала 80-х годов, в которых он подвергал беспощадной критике американский империализм. Но за личиной борца с империализмом скрывался ярый антикоммунист и антисоветчик. Об этом он написал с нескрываемым цинизмом в вступительной статье к изданию «Черной книги коммунизма»:
…я много и въедливо изучал работы Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, Мао и других «классиков» марксизма, основателей новой религии — религии ненависти, мести и атеизма. <…> Давным-давно, более 40 лет назад, я понял, что марксизм-ленинизм — это не наука, а публицистика — людоедская и самоедская. Поскольку я жил и работал в высших «орбитах» режима, в том числе и на самой высшей — в Политбюро ЦК КПСС при Горбачёве, — я хорошо представлял, что все эти теории и планы — бред, а главное, на чём держался режим, — это номенклатурный аппарат, кадры, люди, деятели. Деятели были разные: толковые, глупые, просто дураки. Но все были циники. Все до одного, и я — в том числе. Прилюдно молились лжекумирам, ритуал был святостью, истинные убеждения — держали при себе.
После ХХ съезда в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомышленников мы часто обсуждали проблемы демократизации страны и общества. Избрали простой, как кувалда, метод пропаганды «идей» позднего Ленина. <…> Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработали (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и «нравственным социализмом» — по революционаризму вообще. <…>
Советский тоталитарный режим можно было разрушить только через гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования социализма. <…> Оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что хитроумная, но весьма простая тактика — механизмы тоталитаризма против системы тоталитаризма — сработала.
В немалой степени успеху этой тактики способствовала массированная пропагандистская кампания в советских СМИ, преобладающая часть которых восприняла лозунг гласности как команду «фас» в атаке на все советское прошлое, в первую очередь на сталинизм, который превратился чуть ли наиболее распространенное ругательство в публикациях на исторические темы. Публиковались в основном материалы, претендующие на сенсационность, и советские граждане жадно заглатывали наживку сенсаций, появлявшихся в толстых литературных журналах и в «Огоньке», тиражи которых многократно возросли, а подписка на них тоже вошла в категорию дефицита. Вместе с тем надо отметить, что за спиной «отважных» критиков пороков советского общества зачастую торчали уши того же Яковлева и его сотрудников Международного отдела ЦК. Как свидетельствует бывший зав. сектором идеологического подотдела А. Грачев, непосредственно принимавший участие в этом «литературном творчестве», «независимая журналистика» взошла по указанию «сверху», а наиболее «дерзкие» материалы первого революционного периода гласности прежде, чем попасть на страницы газет, готовились за спиной официального Отдела пропаганды в кабинетах яковлевского подотдела (А.Грачев Кремлевская хроника. — М.: Эксмо, 1994. — С. 110)
Эти публикации воспринимались как своего рода откровение — раз об это не говорили и не писали раньше, то все, что в них рассказано, истинная правда. Лишь немногие понимали, что в новой интерпретации фактов недавнего и более отдаленного прошлого превалирует, как и раньше, тот же принцип — история представляет настоящее, опрокинутое в прошлое.
Такой точки зрения придерживался известный российский социолог Г. Батыгин, которого при всем желании не отнесешь к ортодоксальным марксистам и уж тем более правоверным коммунистам. Вот что он писал в конце 90 годов в предисловии к сборнику о российской социологии 60-х годов: «историческая публицистика, руководствуясь скорее злобой дня и показным покаянием, чем заботой о восстановлении истинной картины прошлого, сформировала специфический жанр разоблачений и неспокойную манеру изложения, оставляющие мало места для бережного отношения к фактам…, необходима объективная реконструкция истории идей. Когда предубеждения и ценности сегодняшнего дня обретают власть над историческим исследованием, оно превращается в политику, опрокинутую в прошлое, возникает миф о советском социализме как времени тотальной лжи. (Г. С. БАТЫГИН: «ПРЕДИСЛОВИЕ» (Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / Отв. ред. и авт. предисл. Г.С. Батыгин; СПб,, 1999.)
Вместе с тем перестроечные СМИ на первых порах не призывали открыто к реставрации капитализма. Это слово вообще отсутствовало в лексиконе критических статей о состоянии советской экономики. Говорилось о пороках «административно-командной системы» (это определение изобрел Г. Попов, впервые употребив его в рецензии на повесть писателя Бека в «Новом мире») и достоинствах «рыночной экономики». Слова капитализм и до сих пор стараются избегать российские либералы, будь-то экономисты или политические деятели.
Но все политические бури, сотрясавшие советское общество за стенами института Рудика, в первые два года «перестройки» -1985 -1986 годах — почти не затронули обычный распорядок: жизнь в институте по инерции катилась по накатанным рельсам, в частности Рудик именно в эти годы писал свою последнюю в СССР монографию. Выбор темы определился случайно, когда Рудику пришлось сначала подбирать материал о положении молодежи в капиталистических странах для поездки с лекциями от Комитета молодежных организаций (КМО) в Бурятию, а затем участвовать в подборе материалов для ЦК ВЛКСМ к предстоящему фестивалю молодежи и студентов в Москве. За этот «труд» Рудик получил вторую в своей жизни награду от ЦК ВЛКСМ — в этот раз благодарность(первой была почетная грамота за целину), и он предопределил появление нового направления работы Рудика в институте. Как и тема свободного времени, при обилии социологических работ тема экономического положения молодежи за рубежом была освещена в СССР довольно скудно и Рудику не составило труда включить монографию по ней в издательский план института, тем более, что в монографии предполагалось охватить в исследовании почти все развитые страны. В конечном счете Рудик сравнил модели вступления в трудовую жизнь в нескольких странах. Работал над монографией Рудик без особого напряга, поскольку «идеологические тиски» постепенно слабели. Но уже после представления монографии в издательство идеологическое прошлое напомнило о себе. Директор издательства «Наука», пришедший туда из КМО и крайне озабоченный повышением рентабельности полиграфической продукции, решил изменить название монографии Рудика: вместо нейтрального заголовка «Положение молодежи в развитых капиталистических странах» он предложил заголовок «Кто виноват в их судьбе»? Когда редактор сказала об этом Рудику, он не без желчи среагировал: «давайте уж сразу назовем «Почему они вышли на панель» — коммерческий успех книги будет гарантирован». Редактор оскорбилась за своего шефа, а Рудик не стал спорить, ему как-то было все равно, тем более, что его название оставалось в подзаголовке. Осенью 1987 года монография была издана, причем в надежде, что «убойный» заголовок привлечет широкий интерес читателей, издательство выпустило ее тиражом около 9 тыс. экземпляров. В институте монография на ежегодном конкурсе опубликованных монографий заняла первое место, а Рудик получил премию, однако это уже не имело особого значения, начинались другие времена: прелюдия к перестройке заканчивалась, начиналась реальная перестройка.
Нет, об «обновлении социализма» с высоких партийных трибун еще пару лет говорили, хотя это обновление мыслилось все более радикальным.
В 1987—1988) речь стала идти о преодолении деформаций как исторически ограниченных, изживших себя черт общественной организации в отношении не только отдельных общественных форм, но и сложившейся системы в целом. Перестройка как обновление социализма, придание ему самых современных форм, в полной мере опирающихся на достижения человеческого прогресса, стала трактоваться как сравнительно длительный процесс, определенный исторический этап «развивающегося социализма», цель которого состоит в том, чтобы «теоретически и практически полностью восстановить ленинскую концепцию социализма». Что думали Яковлев и его единомышленники о ленинской концепции социализма, уже сказано выше, но и Горбачев со товарищи вскоре перестал говорить и о Ленине и о социализме.
По мере нарастания экономического кризиса в стране партийное руководство предпринимало все более радикальные меры для выхода из него, которые в конечном счете привели к демонтажу всей системы управления народным хозяйством. Ключевую роль среди них сыграли закон «О государственном предприятии», принятый в 1987 году, закон «О кооперации», принятый годом позже и ряд законов и постановлений, ликвидировавших государственную монополию внешней торговли.
Каждая из этих реформ имела имманентные пороки. Так, в законе о кооперации, существенно расширившим права кооперативов и круг отраслей, где можно было создавать кооперативы, совершенно игнорировалась проблема их обеспечения сырьем и другими ресурсами. Надстройку в виде кооперативов водрузили на фундамент планового хозяйства, в котором все виды сырья не продавались, а распределялись по фондам. В разнарядках Госплана и Госснаба никаких кооперативов, разумеется, не значилось. То же мясо для шашлыков в магазинах не лежало, а если покупать его на рынке, то цены делались совершенно неподъемными для абсолютного большинства. В ресторане Федорова расценки превысили уровень элитарных «Арагви» и «Праги» в восемь раз. А промышленным сырьем на рынках, разумеется, не торговали. В результате работать смогли лишь те, кто имел связи и получал фондовое сырье за взятки.
Противоречивость принятого Закона о кооперации наиболее очевидной становится при постановке двух вопросов. Первый: допускается ли применение наемного труда в кооперативах, или все участники кооперативного производства признаются пайщиками и равноправными партнерами? Закон решил этот вопрос в пользу первого варианта. Рядом экономистов это явление трактовалось как несоответствующее трудовой природе кооперативной собственности и как фактическое развитие частных предприятий капиталистического типа.
Второй вопрос касался ценообразования на кооперативную продукцию. Отпуск цен на продукцию кооперативов в условиях планового ценообразования вел к неоправданно высоким доходам в кооперативном секторе, На основе ценового диспаритета и дифференциации доходов начался процесс скрытого преобразования государственной собственности в кооперативную. У данного направления развития новой волны кооперативного движения было немало сторонников, которые свои позиции отстаивали как средство борьбы с бюрократическими ограничениями в развитии новых экономических форм.
Оба указанных обстоятельства привели к тому, что в кооперации стали складываться частнокапиталистические отношения. В экономической литературе это выразилось в обосновании необходимости легализации товара рабочая сила, рынка труда, частной собственности и наемного труда.
Закон «О государственном предприятии» 1987 года, запретив промышленным министерствам увольнять директоров предприятий, сделал их независимыми от министерств. Такой директор, действуя от имени предприятия, имел все полномочия собственника. Но эти полномочия не были уравновешены должной мерой ответственности: поскольку активы предприятия формально не принадлежали его руководителю, все убытки относились на государство.
Директора, пользуясь разницей между государственными и рыночными ценами, лишали «свои» предприятия оборотных средств. Они продавали продукцию предприятия принадлежавшим им кооперативам по более низкой цене, а те продавали ее дороже, оставляя полученную прибыль на своих счетах. Право «полного хозяйственного ведения» дополнялось фактической финансовой безответственностью. Установить государственный контроль над всеми было нереально.
К 1990 году на основе концепций аренды и «полного хозяйственного ведения» действовало подавляющее большинство предприятий в СССР. В электротехнической промышленности к 1991 году в аренду было передано примерно 80% предприятий.
Наивно было полагать, что директора предприятий используют предоставленную им самостоятельность для инвестирования прибыли в развитие производства. Как показала практика, в итоге не только резко были сокращены взносы в бюджет, но и на развитие предприятий средств почти не оставлялось. Произошел скачкообразный рост личных доходов вне всякой связи с производством. Ежегодный прирост денежных доходов населения в СССР составлял в 1981-1987 гг. в среднем 15,7 млрд. руб., а в 1988-1990 гг. составил 66,7 млрд. руб.
Принимали все эти законы и постановления, разумеется, исходя из благих побуждений, но каждый шаг на этом пути только увеличивал совокупный негативный эффект для экономики в целом. Л. Лопатников, единомышленник и «соратник» Гайдара, так охарактеризовал механизм негативного взаимодействия реформ 80-х годов
«Прежде всего, оказалось, что расширение прав предприятий, за что ратовали несколько поколений советских экономистов и производственников… сразу же обернулось тем, что коллективы стремились больше средств направлять себе на зарплату, и меньше – на капитальные вложения, то есть на развитие производства. В результате количество денег в стране стало возрастать быстрее, чем масса товаров на прилавках. К тому же была введена выборность директоров. Казалось бы, что может быть демократичнее? Но на деле директора предприятий освободились от контроля со стороны государственной бюрократии, но не попали под контроль ни реального частного собственника, ни рынка (последнее при сохранении товарного дефицита было практически невозможно). Поэтому почти каждый из них стал рассматривать завод, фабрику, комбинат как свою вотчину – и принимать решения, идущие порой во вред производству…
Не были созданы достаточно четкие правовые ограничения, предотвращающие возможности криминального сотрудничества кооперативов и госпредприятий, состоявших «на полном хозрасчете». Более того, распространялись инструкции, которые требовали создавать кооперативы именно «при государственных предприятиях». По-видимому, авторы этих документов предполагали, что таким образом будет обеспечен какой-то государственный контроль над «ненадежными частниками». Оказалось же, что именно директора, поголовно «доверенные» члены партии, стали плодить в своих корыстных интересах «кооперативы», переводя на них и самое лучшее оборудование своих предприятий, и помещения, и финансовые потоки.(Л. Лопатников. «От плана к рынку. Очерки новейшей экономической истории России». СПБ, 2010).
Стремительный рост кооперативного движения ( К моменту принятия закона в 1988 г в стране действовало несколько сот кооперативов, в начале 1990 года было зарегистрировано около 200 тысяч кооперативов, в которых было занято почти 5 млн. человек), не привел к какому -нибудь заметному росту экономики, поскольку большинство из них либо представляли из себя «директорские» кооперативы, паразитировавшие на госпредприятиях, либо занимались перепродажей и обналичиванием денег. Более того, экономике страны перекачка при помощи кооперативов безналичных активов предприятий в наличные деньги нанесла огромный ущерб.
Примечательно, что «центры научно-технического творчества молодежи»(ЦНТМ) получили эксклюзивное право на обналичивание безналичных денег. Эта система появилась в 1987 году, когда при ЦК ВЛКСМ под руководством КПСС был создан Координационный Совет Центров научно-технического творчества молодежи Это были первые коммерческие структуры в стране. Их функция сводилась к превращению безналичных «деревянных» денег в наличные Ни одно государственное предприятие не имело права производить эту нехитрую операцию. Получив такую привилегию, ЦНТТМ извлекали за посредничество между организацией и частными лицами от 18 до 30% прибыли, из которых 5% перечисляли в ЦК КПСС. Все сотрудники ЦНТТМ были комсомольскими функционерами. Курировал развитие «комсомольской экономики» Лигачев. Эти структуры в своем большинстве стали зародышами ныне крупнейших коммерческих структур. Таким образом был сделан первый шаг на пути прямого включения партийной номенклатуры в рыночную экономику.
Опыт «скромных» ЦНТТМ был положен в дальнейшем в основу всей экономической реформы, которая, по образному определению социолога О. Крыштановской, « начиналась по принципу «коммунизм— для народа, капитализм— для номенклатуры», хотя вскоре это утверждение изменится на прямо противоположное, так как новая элита, стремясь удержать достигнутый уровень, будет проповедовать общественный строй типа «коммунизм— для элиты, капитализм— для народа».В этот период создается новая система привилегий. Если раньше привилегии номенклатуры носили «вещный» характер и выражались в предоставлении части государственного имущества в личное пользование, в денежных выплатах, в особой сфере услуг, то теперь привилегии распространяются на права по проведению рыночных операций.
К не менее негативным последствиям привела отмена государственной монополии внешней торговли. В начале 1987 г. право непосредственно проводить экспортно-импортные операции было дано 20 министерствам и 70 крупным предприятиям, а учрежденное новое союзное министерство внешнеэкономических связей лишь регистрировало организации, ведущие экспортно-импортные операции.. Согласно «Закону о кооперативах» при государственных предприятиях и местных Советах быстро возникла сеть кооперативов и совместных предприятий, занятых вывозом товаров за рубеж, что резко сократило поступление на внутренний рынок. Многие товары при спекуляции давали выручку до 50 долларов на 1 рубль затрат и поэтому покупались товары у предприятий «на корню» Под видом вторсырья и металлолома кооперативы продавали за рубеж все, вплоть до танков. На этом фоне продажа кооперативом Тарасова (приобретшим всесоюзную известность после уплаты партийных взносов в сумме 90 тысяч рублей), медной проволоки, выдранной из вполне пригодных кабелей, выглядела как детская шалость. По оценкам экспертов, только в 1990 г. была вывезена 1/3 потребительских товаров. По данным официальной статистики цветные телевизоры в Турцию не экспортировались, тем не менее сотни тысяч турецких семей обзавелись советскими цветными телевизорами, так что турки обратились с просьбой создать сеть станций технического обслуживания. В дефицит превратилось мыло, отсутствие которого в душевых шахт Кузбасса переполнило чашу терпения шахтеров и вызвало волну забастовок. Требования бастующих вышли далеко за пределы обеспечения товарами первой необходимости.
Своего рода «Самовывозом», начиная с 1990 года, занимались на свой страх и риск отдельные граждане, которых в народе прозвали «Челноками». Число этих своего рода коробейников ХХ века исчислялось миллионами. Как отметил известный летописец (точнее «бытописец»), этой эпохи Леонид Парфенов, после открытия границ челноки устремились в Польшу и занимались бартерной торговлей — меняли электротехнику, фотоаппараты, бинокли и алкоголь на дубленки, кожаные куртки, свитеры, видеомагнитофоны. Затем в челночную «Мекку» превратилась Турция. Каждый день турецкое посольство в Москве выдавало несколько тысяч виз За одну поездку в Турцию «навар» мог составить до трех тысяч рублей, что примерно соответствовало среднегодовой зарплате. (Л. Парфенов. Намедни. Наша Эра). Ну и вся система обслуживания челноков (от перевозчиков до изготовителей капроновых сумок). тоже имела солидные доходы от этого бизнеса.
Не только на обывательском, но и на официальном уровне шли бесконечные дискуссии на тему: «Сколько можно зарабатывать?» Академик Абалкин в августе 1988 года заявил, что потолок для кооператоров должен составлять где-то в районе 700 рублей в месяц. (В марте 1988 года, правительство ввело налог на личные доходы кооператоров: 30% на доход в диапазоне от 500 до 700 рублей в месяц, 70% на доход от тысячи до 1500, и 90% на все доходы свыше полутора тысяч рублей)
Рост теневой экономики сопровождался еще более заметным ростом организованной преступности. Она практически ликвидировала государственную торговлю спиртным, «приватизировала» её и изъяла из госбюджета в свою пользу 58 млрд. руб. в 1989-1990г. Российский юрист В. С. Овчинский, многие годы занимавшийся в МВД проблемами организованной преступности сначала в СССР, а затем в России, так охарактеризовал развитие оргпреступности в СССР в годы перестройки. и в последующий период в России в 90-е годы.
К середине 80-х годов в обществе существовали высокоорганизованные антисоциальные силы: коррумпированная часть партийно-государственной бюрократии и мафиозные структуры. Именно они хлынули в образовавшийся при сломе административных структур вакуум, активно ломая эти структуры и обогащаясь в условиях хаоса. В руки преступников попал огромный стартовый капитал в результате антиалкогольной кампании, которая не только породила дефицит в госбюджете, но и способствовала возникновению новых устойчивых мафиозных структур, быстрому наращиванию теневого капитала. Разрешение кооперативам и совместным предприятиям вести бесконтрольную внешнюю торговлю при неконвертируемом рубле, искусственно заниженных (по сравнению с мировыми) внутренних ценах и наличии больших теневых капиталов привело к спекуляции национальным достоянием.
Масштабы организованной преступности все больше охватывали именно те сферы экономики, которые непосредственно связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей населения. Это относится, прежде всего, к предприятиям и организациям, осуществляющим хранение, транспортировку и реализацию товаров народного потребления. Облегчали преступную деятельность резко возросшие нарушения хозяйственных связей и развал потребительного рынка, попытки многих местных органов регулировать его неэкономическими методами, срыв поставок и завоза товаров в розничную торговую сеть, создание искусственного дефицита. Возрастанию масштабов преступлений способствовали так называемые договорные, кооперативные цены, а с 1992 г. и отпущенные цены. Ценообразование без государственного регулирования во многих случаях использовалось для злоупотреблений, сокрытия истинных поступлений от торговли и сбыта. Все это предопределяло новые варианты организованной преступной деятельности. В 90-х годах, несмотря на меры противодействия со стороны правоохранительных органов, еще большее распространение получили преступные формирования бандитской и рэкетирской направленности. Они отличались высоким уровнем уголовного профессионализма, строгой иерархической структурой, распределением ролей. Подобные группы, как правило, были мобильны, имели автотранспорт, хорошо оснащены технически (имели приборы ночного видения, радиостанции, газовые пистолеты и баллоны, бронежилеты и т. п.), вооружены различными видами огнестрельного оружия как самодельного, так и серийного производства.
Нестабильность в социальную обстановку вносит деятельность криминальных структур, сформировавшихся по национальному или религиозному признакам. Отдельные из них специализируются на совершении конкретных видов противоправной деятельности, но в основном занимаются вымогательством, наркобизнесом, торговлей оружием, мошенничеством и хищениями в сфере экономики, контролируют проституцию, игорный и автобизнес.
В условном едином организованно-криминальном пространстве с начала 90-х годов прошлого века можно было выделить пять видов участников преступных формирований:
1) «лжепредприниматели», которые появились в 1988 г. с момента принятия Закона СССР «О кооперации». Специализируются на финансовых аферах (получение незаконных кредитов и их присвоение путем лжебанкротства, подкупа сотрудников банковской системы, трансфертные операции по конвертации рубля, использование фальшивых авизо, векселей и других банковских документов), «перекачке» государственных средств на счета коммерческих структур с последующим их присвоением, незаконной приватизации государственного и общественного имущества с дальнейшей спекуляцией недвижимостью, перепродаже стратегического сырья, полученного по лицензиям и квотам от коррумпированных чиновников;
2) «гангстеры», основная направленность — рэкет (квалифицированное вымогательство) и сопряженные с ним бандитизм, разбои, грабежи, кражи. Главный объект — «лжепредприниматели», которые в начальный период обычно подвергаются силовому давлению, а затем вынуждены заключить с «гангстерами» соглашения с целью охраны и слияния преступно добытых капиталов. Кроме того, «гангстеры» контролируют традиционные «классические» сферы противоправной деятельности: наркобизнес, игорный бизнес, проституцию. К этой категории следует отнести и наемных убийц («киллеров»);
3) «расхитители» («госворы») — организованные группы преступников, сформировавшиеся еще в «застойный» период, особенно в сфере госторговли, а в годы реформ сосредоточившие свою противоправную деятельность в сферах приватизации госимущества, продажи сырья, цветных и редкоземельных металлов, леса, «перекачки» рублевых и валютных средств на счет коммерческих структур «лжепредпринимателей». Ввиду этих противоправных действий и обладания значительным преступно добытым капиталом также стали объектом силового давления «гангстеров»;
4) «коррупционеры» — группы госчиновников в органах власти, управления, предатели в правоохранительных органах, которые в результате подкупа предоставляют «лжепредпринимателям» и «госворам» незаконные услуги, льготы, участвуют с ними в распределении сверхприбылей, обеспечивают их «прикрытие» в случае угрозы наступления уголовного преследования;
5) «координаторы» — элита преступного мира, как правило, «воры в законе» либо «авторитеты», обеспечивающие «стабильность» системы организованной преступности путем взаимодействия с каждым из названных выше элементов.
На «координаторов» ложится обязанность по хранению и использованию регионального «общака» (общей денежной кассы), который все чаще вкладывается в коммерческие структуры для получения прибылей и спасения «общака» от инфляции. Приведенная типовая схема весьма условно отображает реальность, так как большинство преступных сообществ аморфны. Наблюдается «перетекание» «гангстеров» в «лжепредпринимателей».
«Идеология», которую насаждают «координаторы» преступной среды, неоднородна, в ней наблюдаются как тенденции ретропрофессионализма (реанимация традиций и обычаев «воров в законе»), так и неопрофессионализм в виде копирования системы взаимоотношений по типу западных (либо восточных) мафиозных и гангстерских организаций. Взгляды и привычки различаются и в зависимости от принадлежности к тому или иному виду преступного промысла (дельцы-расхитители, коррумпированные с госаппаратом, бандиты, рэкетиры, сутенеры, карманные воры и т. д.). На идеологию преступного мира и, естественно, на формирование взглядов и жизненных позиций членов мафиозных структур огромное влияние оказывает сравнительно немногочисленная, но авторитетная, имеющая глубокие корни в преступной среде корпорация «воров в законе», составляющая ядро организованной преступности. (В. С. Овчинский. РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ (МАФИЯ) КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ. Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание, Умение» №3 2010 г. ).
Однако, по мнению Овчинского, организованная преступность это не только и не столько совокупность различных организованных сообществ, это и форма жизнедеятельности отдельных индивидов, групп лиц, которые моделируют в своем индивидуальном поведении и образе жизни стереотипы поведения и образ жизни преступных сообществ.
Таким образом, в социальную ткань общества вклиниваются как высокоорганизованные преступные сообщества, так и не связанные с ними непосредственно отдельные индивиды или группы индивидов, которые действуют в парадигме этих преступных сообществ.
В 80-е годы процесс криминализации общества только начинался. К концу 90х годов по оценке МВД России в стране насчитывалось 130 особо опасных преступных сообществ, в которые входили около тысячи организованных криминальных групп с с более, чем 7,5 тыс. участников. (Эта оценка явно занижена: так, в одной только рязанской ОПГ «Слоны» в середине 90-х годов состояло примерно 800 «братков»).
Однако имеющиеся оценки числа организованных преступных группировок, возникших в 80-е и 90-е годы, лишь в малой степени отражают влияние криминала на общество. Более показательны данные опроса москвичей, согласно которым в конце 90-х годов в круг знакомых 59% московских предпринимателей и 32% других москвичей входили лица, совершившие преступления. Еще более мрачное впечатление производят данные, приведенные в постановлении Государственной Думы » О преодолении кризиса в экономике РФ», принятом в 1998 году. Как отмечалось в этом документе, преступные группировки контролировали в России до 40% частных фирм, примерно 60% государственных предприятий и 85% банков. Эти цифры свидетельствуют о том, что в конце 80-х годов криминалитет представлял авангард той пестрой толпы коррумпированных чиновников и партноменклатуры, спекулянтов и аферистов, которые связывали свои планы и надежды с демонтажем советской власти. Часть из них устремилась на Запад, но большинство включилось в борьбу за реставрацию капитализма в России для того, чтобы легализовать награбленное.
Е. Гайдар не без злорадства неоднократно отмечал, что основы большинства крупных состояний и фирм, которые доминировали в ельцинскую эпоху, были заложены в 1988–1991 годах. Решающий вклад в первоначальное накопление внесли правительства Николая Рыжкова и Валентина Павлова. Именно при них возникла культура «легких денег», которая, с одной стороны, привела к развалу советской денежной системы, а с другой — оказалась мощным стимулом для появления нового класса предпринимателей. (О своей роли в формировании современной российской буржуазии он предпочитал из скромности умалчивать).
В последние два с половиной года осуществления перестроечных реформ экономический кризис в СССР приобрел невиданные масштабы. Дефициты государственного бюджета и негативное сальдо внешней торговли стремительно росли, золотовалютные резервы таяли и, самое главное, товарный дефицит трансформировался в товарный голод — во многих регионах и отдельных городах местные органы власти вели талоны на товары и даже продовольственные карточки. Градус социальной напряженности начинал зашкаливать, и Горбачев лихорадочно искал пути выхода из сложившейся ситуации. Он не нашел ничего лучшего, чем «углУбить» процесс демократизации общества.
Летом 1988 года на партконференции было принято решение о сохранении за КПСС лишь идеологической, просветительской( что-то вроде дублера общества «Знание?). функции. О том, какие последствия повлечет за собой переход к многопартийной системе Горбачев, похоже, не думал. Он больше был озабочен сохранением собственной политической власти,
Чувствуя, что она от него ускользает, Горбачев попытался сохранить ее, добавив в конституцию пункт о введении поста президента. Однако это не спасло его от краха политической карьеры в скором времени.
Отмена 6-ой статьи Конституции СССР, в которой провозглашалась руководящая роль КПСС в общественной жизни, привела к появлению новых политических партий.
Еще до внесения поправок в конституцию появились первые оппозиционные партии. Весной 1988 года возникают «Демократический союз», Народные фронты» в Эстонии и Латвии, «Саюдис» в Литве. Позже аналогичные организации возникли во всех союзных и автономных республиках. 1989 год стал годом появления многих партий. Вновь образованные партии отражали все ведущие направления политической жизни. Ультралиберальное направление представлял «Демсоюз», выступающий за смену модели общественного развития. К этому же крылу можно отнести: партии христианских демократов В следующем году оформилась крупнейшая партия либерального лагеря — «Демократическая партия России», затем — «Республиканская партия Российской Федерации».
Социал-демократическое направление было представлено двумя основными организациями: «Социал-демократической ассоциацией» и «Социал-демократической партией России». В июне 1990 года была основана «Социалистическая партия». Анархистское направление нашло отражение в деятельности «Конференции анархо-синдикалистов» и «Анархо-коммунистического революционного союза» Число партий в стране стремительно росло, но большинство из них так же быстро исчезло, как и появилось.
С осени 1990 года началось формирование политических партий, выступающих с позиций праворадикального переустройства общества: Русская национал-демократическая партия и др. Особняком держались организации российского государственного традиционализма (монархисты) и революционно-социалистического традиционализма, группа «Единство» и др.
Одновременно начался фактический распад КПСС. С формальной точки зрения как союзная партия она прекратила свое существование еще до ликвидации самого Советского Союза. Из КПСС вышла большая часть состава компартий Литвы, Латвии и Эстонии, организовав самостоятельные партии социал-демократической ориентации. Компартии Грузии, Армении, Молдовы фактически прекратили свое существование. Таким образом, была заложена политическая база для выхода из состава СССР отдельных республик. Республиканские и даже региональные элиты, используя растущую слабость союзного руководства, резко сократили поставки продовольствия в российские промышленные центры.
Но и в рядах коммунистов России царил разброд. Если в 1989 году ряды КПСС покинуло 140 тыс. человек, то в 1990 году — 2,7 млн. человек. Наверняка большинство из покинувших партию составляли те, кто вступили в нее из карьеристских побуждений, и в сложившейся ситуации не видели смысла в партбилете, предпочитая, как крысы, бежать с тонущего корабля. Те коммунисты, которые были не согласны с курсом Горбачева, создавали партии социалистическое направленности (Народная партия свободной России, Социалистическая партия трудящихся), и прокоммунистической ориентации (Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, Российская коммунистическая рабочая партия). Увы, большинство из них оказалось партиями -однодневками — у них не было ни опыта политической борьбы, ни необходимых для нее ресурсов, и, самое главное, привлекательной для масс четкой политической программы и харизматичных лидеров.
Немаловажно, что катастрофическое падение авторитета партийного и государственного руководства преобладающая часть коммунистов и всего общества заметила слишком поздно. Попрежнему между Кремлем и кварталом на Старой площади, где размещался ЦК, курсировали «членовозы», в президиуме Съездов народных депутатов с экранов телевизоров на граждан смотрели знакомые им лица членов и кандидатов в Политбюро ЦК.
И Рудику запомнилась степень собственного неведения о глубине политического кризиса в стране накануне судьбоносных событий. В конце 1989 года началась ликвидация социализма в странах Восточной Европы. Рудик был в Будапеште, когда в ГДР снесли Берлинскую стену, что предвещало исчезновение с карты Европы ГДР в ближайшее время. Рудик оказался в Будапеште случайно — ТТТ наградил его этой поездкой за какой-то важный для него материал, подготовленный Рудиком. Формально Рудик входил в делегацию социологов ИМРД, занимавшихся проблемами молодежи и возглавляемой известным социологом Шубкиным. Делегация приняла участие в симпозиуме социологов из восточноевропейских стран, занимавшихся аналогичной проблематикой. Шубкин в упор не видел Рудика, которого пан — директор включил в делегацию наверняка без его согласия. Собственно говоря, Тимофеев попросил Рудика встретиться с парой венгерских исследователей и расспросить их о перспективах дальнейшего сотрудничества венгерских коллег в совместных с ИМРД проектах в свете вероятных политических изменений в Венгрии. Задание бредовое, поскольку никто не мог тогда сказать, как вообще сложатся отношения между странами при таких циклопических сдвигах. Делегацию разместили в пансионате ЦК еще правящей на тот момент партии венгерских коммунистов, но в ней назревал раскол и в обществе шло глухое брожение. Под впечатлением увиденных телевизионных кадров о сносе Берлинской стены участники симпозиума стали обсуждать варианты развития ситуации в других странах Восточной Европы. Прогнозы были крайне пессимистические, но никому из участников этой встречи и в голову не пришло, что в СССР может произойти реставрация капитализма. Рудик вместе со всеми полагал, что «этого не может быть, потому, что этого не может быть никогда»
Впрочем, заблуждался по этому вопросу не только Рудик. Бывший заместитель директора ИМЭМО, Станислав Михайлович Меньшиков в предисловии к своей очередной монографии, в которой он анализировал возможности выхода из кризиса в СССР, в феврале 1990 года писал: «соревнование между всеми формами собственности предполагает допущение частной собственности и наемного труда. Как показано в книге, обе эти категории уже присутствуют в СССР, и декларативный отказ от них — очередная идеологическая фикция — дает повод нашей консервативно-популистской оппозиции поднять кампанию против якобы происходящего сползания общества к капитализму. Но в политическом плане такие оценки по меньшей мере преждевременны. Нет ни одного ответственного политического деятеля или общественно-политической группировки в СССР, которые бы проповедовали возврат к обществу капиталистического типа. (С.М. Меньшиков. Советская экономика. Катастрофа или Катарсис? Москва, 1990, стр.7)
Увы, Меньшиков ошибался. И группы тайных интересантов были и ответственные, точнее безответственные политические деятели, тайно мечтавшие о возврате страны к капитализму, были, иначе нельзя объяснить демонтаж всей политической структуры советской системы в считанные даже не годы, а месяцы.
И это можно было предвидеть с учетом эволюции, а точнее перерождения партийно-государственной элиты страны.
В своей работе российский социолог О.В. Гаман-Голутвина обратила внимание на специфику политической элиты в СССР <… советская номенклатура — «господствующий класс» советского общества, как определяет его Джилас, Восленский и другие авторы, в отличие от зарубежных элит, была бесправным служилым классом. Наделенная весьма скромными благами по сравнению даже с западным средним классом, советская номенклатура должна была постоянно их отрабатывать, «вечно страшась того, что полученное вчера заберут обратно завтра. Даже самые высокопоставленные чины пролетарского государства в глубине души действительно оставались пролетариями, ибо не имели ничего, даже подтвержденной очередным руководителем суммы привилегий и благ». Именно противоречие между правом распоряжения — действительно крайне широким, в отдельные периоды практически неограниченным — и правом владения, вернее, отсутствием такового, стало ключевым противоречием сознания советской номенклатуры, противоречия, ставшего одним из побудительных мотивов перестройки>. <К началу 1980-х гг. номенклатура представляла собой «выеденное яйцо» (выражение И. Дискина), под оболочкой которого сложились (в большинстве случаев слабо оформленные) кланы и корпорации, которым было явно тесно в ороговевшей скорлупе и которые ждали своего часа для конверсии накопленных разнообразных ресурсов (финансовых, символических, политических и т.п.) в реальную политическую власть или экономический капитал. Однако все происшедшее в период перестройки выглядит вполне логичным, если учесть, что политическая элита перестройки — это элита «второго этапа» своей эволюции, для которой главной интенцией становится инстинкт наследования. (Рудику запомнилось, что кто-то ему рассказывал о секретном решении Политбюро разрешить членам Политбюро усыновлять своих внуков и внучек, дабы за ними оставались права на наследование государственных квартир и дач, предоставленных в распоряжение партийного руководства.). Поэтому конверсия власти в собственность, а точнее, слияние власти с собственностью, и стало основным побудительным мотивом перестроечной элиты в условиях слабости верховной власти>.
<Вместе с тем важно отметить, что необходимым условием успеха рыночной пассионарности радикально-либерального крыла номенклатуры стала пассивность ее оппонентов — приверженцев иной линии. Весьма красноречива в воспоминаниях В. Болдина характеристика участников последних Пленумов ЦК КПСС: «В последние полтора года (советского режима — О. Г.) в зале заседаний пленумов сидели тени-силуэты великого прошлого». (О.В. Гаман-Голутвина. «Политические элиты России» М.2008 г).
Превращение членов ЦК в Тени-силуэты великого прошлого было неизбежно после той «мясорубки» партийного руководства, которую провел Горбачев за годы перестройки. Ставленники Горбачева по определению не могли выступать против него, ведь они были обязаны ему своей карьерой.
Только на апрельском (1989 г). Пленуме ЦК КПСС было отправлено на пенсию 110 человек, избранных лишь три года назад с подачи самого Горбачева на XXVII съезде. Чистка на верхних этажах власти инициировала цепную реакцию на средних и нижних уровнях. При Горбачеве сменилось 66 процентов первых секретарей обкомов партии. Б. Ельцин в бытность главой Московской организации КПСС сменил 60 процентов первых секретарей райкомов.
Согласно данным газеты «Монд», в 1985 — 1990 гг., ЦК КПСС претерпел более значительные изменения (на 86%) по сравнению с периодом 1935 — 1939 гг., когда масштаб чисток составил 77 процентов.
Но при всей важности борьбы, происходившей на верхних ступенях партийно-государственной элиты, вряд ли в ней одержали бы победу представители радикально-либерального крыла номенклатуры без активной поддержки так называемой интеллигенции, большая часть которой представляла средние и низшие этажи той же номенклатуры, являясь для общества в целом коллективным экспертом. Как отметил С. Кара-Мурза, » интеллигенция через «молекулярный» процесс воздействия на окружающих служит главным глашатаем и пропагандистом суждений экспертов с признанным в среде интеллигенции статусом. Академик Сахаров скажет что-то невразумительное о желательности расчленения СССР на 45 государств — и уж боготворящий его инженер растолкует эту мудрость рабочим в курилке, а врач пациентам. Роль интеллигенции (в отличие от специалистов) как главного социального субъекта идеологии подробно рассмотрел Антонио Грамши. Но эта роль была известна до него. Н.Бердяев писал, что интеллигенция «была у нас идеологической, а не профессиональной и экономической, группировкой, образовавшейся из разных социальных классов».
Со времени появления этого понятия в российской, а затем и в советской культуре, оно, можно сказать, обросло различными интерпретациями своего содержания. Русский писатель Боборыкин, который ввел это понятие в российскую культуру, называл интеллигентами людей, которые испытывали «чувство вины за былое безразличие к бедам крепостного крестьянства». Замените крепостных крестьян на всех сирых, несправедливо обиженных в современном обществе и вы получите базисную характеристику интеллигента. Но его портрет не исчерпывается этой характеристикой. В частности, по своим политическим взглядам советская интеллигенция была очень неоднородна и с обострением экономического и политического кризиса в СССР все очевиднее становилась и дифференциация внутри этого аморфного социального слоя. Немало оставалось людей с сохранившейся психологией, как его презрительно называли новоявленные рыночники, «совка», которому претил появившийся дух наживы и неравенства. Они здраво полагали, что сверхвысокие доходы в сложившейся ситуации тех же кооператоров не могли быть нажиты честным трудом.
Впрочем, иначе и быть не может из-за неопределенности самого этого понятия. Российский психолог А. Петровский в статье, опубликованной в Литературной газете в 2005 году, обратил внимание на разницу между двумя понятиями — «интеллигенция» и «интеллигентность». Существует ряд индивидуальных особенностей личности, которые в совокупности образуют то, что называется интеллигентностью. К ним относится любовь к книге, интерес к культурно-политической жизни, вежливость в общении, опрятность, отсутствие ксенофобии, свободное владение родной речью, неприятие ненормативной лексики. Однако в массе эти качества встречаются в различных сочетаниях. Некий индивид читает, а может и пишет книги, опрятен, но беспардонно хамит окружающим, ощущая себя самодостаточным. Другой читает Шопенгауэра, Розанова и других философов, прекрасно владеет русским языком, но на дух не переносит инородцев.
Это уже затрудняет определение признаков, по которым можно вычленить интеллигенцию как отдельную общественную группу. А. Петровский в своей статье проанализировал семь признаков, которыми чаще всего характеризуют интеллигенцию: либерализм, образованность, креативность, оппозиционность, интеллектуальность, просветительство и демократичность и показал, что при ближайшем рассмотрении у каждого из них нет общего интеллигентного начала. (А. Петровский. Интеллигенция при наличии отсутствия. Литературная Газета.19-25 октября 2005 г.).
Рудик, глядя на многих знакомых, стал задумываться — можно ли назвать интеллигентом либерала и оппозиционера, для которого высшая ценность — возможность вынуть фигу из кармана и показывать ее на все четыре стороны? Или креативного инженера, который, «задрав штаны», готов бежать за любым политиканом, предлагающим простые решения сложных социальных проблем? Или представителя так называемой «творческой интеллигенции», который еще недавно «гордился общественным строем», а затем под влиянием политической конъюнктуры, как флюгер, поменял свои убеждения на 180 градусов и демонстративно сжигал свой партбилет во время телевизионной передачи?
Показательно отношение так называемой интеллигенции к совершенно бредовым теориям, таким, как реконструкция истории, предложенная математиком Фоменко, или теории «торсионных полей», привлекшим внимание общества в эти годы. Среди горячих поклонников этих теорий «технари» — люди с «техническим образованием» и складом ума (сюда попадают все, начиная от выпускников ПТУ, заканчивая докторами каких-нибудь геолого-минералогических наук). Они искренне верят, что «реконструкции» Фоменко основаны на строгих математических методах и данных точных наук.. Есть среди них и «альтернативщики», которые воспринимают на веру любую ахинею, не соотносящуюся с «официальной версией. Одновременно верят в зелёных человечков, жыдо-масонский заговор, вечный двигатель на торсионных полях, плоскую землю и славяно-арійскую ведическую цивилизацию, миллионлетняя история которой ВНЕЗАПНО уменьшается в «короткую хронологию» Фоменко.
Нет ничего удивительного, что в последние годы перестройки преобладающая часть интеллигенции, шумно радуясь «освобождению мышления», с поразительной покорностью подчинилась гипнозу самых примитивных идеологических заклинаний, например, призыву перейти к «нормальной» экономике. И никто не спросил: каковы критерии «нормального»? Что же «нормального» в экономике, при которой все склады в России затоварены лекарствами, а дети в больницах умирают от недостатка простейших препаратов? Можно было бы как-то объяснить это затмение интеллигенции, если бы в ее среде циркулировало хотя бы мифическое оправдание: мол, на пути к рынку мы должны пройти через этап полного абсурда.
На что же надеялась интеллигенция, приняв на веру миф о столь вопиющем убожестве народного хозяйства СССР, что единственным выходом было признано не его реформирование, а тотальное разрушение? Ведь самый заядлый романтик смутно все же подозревает, что какая-то система производства существовать должна, без этого не проживешь. И было воспринято, опять таки как сугубо религиозная вера, убеждение, будто стоит сломать эти ненавистные структуры плановой экономики, и на расчищенном месте сама собой возникнет рыночная экономика англосаксонского типа. Надо только разрешить! И интеллигенция посчитала, что достаточно «продавить» через Верховные советы законы о частной собственности, и в России возникнут если на США, то уж Англия как минимум. Здесь с наибольшей силой проявилось мышление интеллигенции как больной гибрид самого вульгарного марксизма и обрывков западных идей с религиозными утопическими воззрениями. Для интеллигенции в перестройке как будто не существовало неясных фундаментальных вопросов, никакой возможности даже поставить их на обсуждение не было.
Рудик после споров со многими своими коллегами однажды сказал: «нет, я не интеллигент, я мещанин». Он не был оригинален, еще задолго до него А. Чехов примерно так же определил свое отношение к интеллигенции — «не называйте меня интеллигентом, у меня, слава Богу, есть профессия».
Кстати, в последние годы перестройки выяснилось, что потомки дворян, купцов и представителей прочих высших классов Российской империи составляют не столь уж малую часть среди так называемой интеллигенции. Однажды Коняев признался Рудику, что его пра-пра в каком-то поколении бабка была владелицей первой частной железной дороги в России. Вряд ли секретарь парткома Дипломатической Академии отразил этот факт при приеме в партию и тем более при приеме на работу в столь идеологизированное учреждение, как Дипломатическая академия. Взгляды Ростислава в последние годы существования СССР совпадали с взглядами Новодворской. Рудику запомнился и другой случай неожиданного признания в принадлежности к благородному сословию. В троллейбусе он случайно встретился с бывшей коллегой в ИМЭМО Сорокиной, в девичестве Жеребцовой. Эта дама в своих замашках была похожа на базарную торговку, и каково же было удивление Рудика, когда она не без гордости ему объявила: «а ты знаешь, что я столбовая дворянка?» Рудик начал хохотать, у него даже потекли слезы. Извинившись, он выскочил из троллейбуса на ближайшей остановке.
Вспомнили о своих благородных предках и многие другие интеллигенты с партбилетами и без оных..
Как отметил С. Кара-Мурза, «людей убедили, что для преодоления накатывающейся катастрофы нужны были не усилия ума, души и тела, а несколько магических слов, которые бы вызвали из исторического небытия мистические силы, разом дающие большие блага для настоящего и будущего. Причем блага, просто отнятые у других современников.
Одной из самых нелепых фантазий такого рода было бурное и утопическое возрождение сословных притязаний. Откуда ни возьмись, Москва наполнилась дворянами, а то и потомками графов и князей. Возникли конкурирующие дворянские собрания, поиски родословных, певцы загнусавили о каких-то поручиках Голицыных — все это под флагом демократии. И под стенания о том, что большевики поголовно уничтожили дворян, а остатки их («два миллиона!») уехали за границу. И даже как-то стесняешься напомнить этим большим детям, что в 1917 г. всех дворян, включая обитателей ночлежек, в России было 1,4 миллиона человек. И что большинство из тех, кто уцелел, — нормальные люди, и им в голову не приходит тащить в наше время эти оставшиеся в прошлом сословные атрибуты.
Но это движение «новых дворян» хоть и выглядит гротеском, все же безобидно. Вряд ли они всерьез будут требовать восстановления крепостного права (хотя бы потому, что тогда, глядишь, таким антикоммунистам как А. Н. Яковлев или Михаил Ульянов придется идти в псари к коммунисту родом из аристократии Севенарду). (С. Кара-Мурза. Манипуляция сознанием. стр. 262)
Но все это было бы смешно, если не было бы так грустно наблюдать за метаморфозой близких приятелей и даже друзей. Так получилось, что в конце 80-х годов Рудик довольно редко общался с Валентином Федоровым. После его возвращения из ФРГ, где он несколько лет работал представителем журнала МЭиМО, Валентин вернулся в ИМЭМО, но не «вписался» в изменившийся за годы его отсутствия институт. Он перешел из ИМЭМО в «алма матер» — МИНХ, где работал проректором института по международным связям. Вряд ли эта работа удовлетворяла его, и он решился на экстраординарный поступок. Он, как и многие международники того времени, проявил интерес к теме свободных экономических зон, написал несколько статей, посвященных этой проблеме. Она стала модной — чем больше приходила в упадок экономика, тем лихорадочнее становились поиски спасательного круга, при помощи которого удалось бы вытащить народное хозяйство из трясины кризиса. В качестве такого спасательного круга многих экономистов привлекла идея создания в СССР свободных экономических эон, стимулировавших экономический рост в Китае и ряде других азиатских стран. Рудик тоже случайно оказался причастен к дискурсу по этой проблеме. Его пригласили оппонировать на защите диссертации по теме свободных экономических зон в ИМЭМО. Он уже давно не появлялся в институте и прошли те времена, когда он смотрел на своих старших коллег снизу верх. А они не изменились — как и прежде, они вели себя так, как — будто над головами у институтских светил были нимбы. Во время выступления первого оппонента на их лицах была невыразимая скука, казалось, что если бы у них были бы ручные пенсне они стали бы рассматривать через него выступавшего как какое-то экзотическое насекомое. Рудик медленно зверел и решил, что он нарушит привычный ритуал при защите. Он вышел на трибуну и начал что-то бубнить, и когда члены совета почти заснули, он вдруг буквально заорал, стуча по трибуне: «нам нужен свой Гонконг!» Эффект был потрясающий — публика чуть не попадала со стульев и внимательно слушала Рудика до конца его выступления. После окончания заседания совета С. Никитин, выходивший вместе с Рудиком, снизошел до похвалы — «а ты сегодня интересно выступил». Рудик еще раз убедился в том, что откровенный эпатаж может при определенных обстоятельствах быть убедительнее самых изощренных аргументов.
Что касается Валентина, то его интерес к этой проблеме во многом предопределил его дальнейшую судьбу. В своих статьях он, в частности, рассматривал перспективность отдельных регионов в СССР с точки зрения создания в них свободных экономических зон. Одним из таких регионов в силу своей обособленности от материка с одной стороны и близости к развитым странам Азии с другой был Сахалин.
Ему пришла в голову на первый взгляд сумасшедшая затея — отправиться на остров лично и убедить местное руководство в необходимости добиваться статуса свободной экономической зоны для Сахалина. Об истории появления Федорова на Сахалине поведал местный журналист C. Москвин.
Политический взлет Федорова относится к 1988-89гг., когда он впервые посетил Сахалин и выбрал «страну непуганных идиотов» в качестве плацдарма для похода на Москву (приоритет в приглашении оспаривают, с одной стороны, обком партии, с другой — журналист местной партийной газеты, (в те времена) представитель Президента РСФСР, народный депутат Гулий В.В.).
К моменту выборов в народные депутаты РСФСР (весна 1990г.) в области создался вакуум на новый политический имидж. Это объяснялось неудовлетворенностью населения местным руководством, отсутствием ярких фигур среди партийных политиков. В области один дневной вуз (пединститут), одна газета, весьма тонок слой интеллигенции. Сохранился провинциальный пиетет перед загадочной наукой экономикой и учеными званиями. Кроме того, на руку Федорову играло отсутствие видимой связи с местной бюрократией. Возможная оппозиция не использовала, да и не имела компрометирующих кандидата материалов. Сильной стороной кандидата в депутаты была загадочная, но притягательная для большинства идея зоны свободного предпринимательства, концентрировавшая надежду на перемены в экономике, управлении, благосостоянии. Политическими силами, поддерживающими Федорова на выборах, были активисты народного фронта и Демократического союза. Клуб «Демократические выборы» (близок к Дем.России) первоначально занимал нейтралитет, но при выборах председателя облисполкома (апрель 1990г.) выдвинул и продвинул кандидатуру Федорова.
Дальше началась феерическая политическая карьера Валентина, продолжавшаяся сравнительно недолго. Но не будем забегать вперед.
Переезд Валентина на Сахалин предотвратил неизбежное охлаждение в отношениях Рудика со своим давнишним другом из-за расхождений в оценках происходивших в стране политических событий. Возникла реальная перспектива остаться в полном одиночестве со своими немодными в то время взглядами. Однако неожиданно Рудик обнаружил среди своих знакомых в научном сообществе близкого по взглядам человека, Сережу Веселовского. Они были знакомы достаточно давно, в основном их общение сводилось к коротким разговором в курилке ИНИОНА, где работал Сергей. Однажды такой разговор вышел за рамки обычного для курилки трепа и они обнаружили практически полное совпадение политических взглядов. Несмотря на разницу в возрасте (Сергей представлял уже послевоенное поколение), отношения Рудика с Сережей буквально в считанные месяцы превратились в дружбу — они понимали друг друга с полуслова, их разговоры по телефону поздними вечерами длились часами. Сергея можно назвать энциклопедистом, он поражал своими познаниями Рудика в самых разных областях, включая не только науку, но и сферу реальной жизни в Москве. Его английский был выше всяких похвал, он не только мог общаться на английском с американскими и английскими коллегами, но написать на нем тексты своих выступлений на международных встречах. И в целом его взаимоотношения с окружающими свидетельствовали о подлинной интеллигентности во всех ее проявлениях. В свою очередь Сережа нашел в Рудике благодарного слушателя, с которым он мог обсуждать свои непростые в тот период семейные проблемы. Можно только удивляться везению Рудика — появление нового друга в столь солидном возрасте достаточно редкий случай.
Возвращаясь к оценке роли интеллигенции в перестройке, нельзя обойти вниманием эволюцию сообщества экономистов. По мере нарастания кризиса в СССР в экономическом сообществе все заметнее становились принципиальные различия в подходах к решению актуальных экономических проблем различных институтов и научных коллективов, объединенных общей теоретической платформой. Российский социолог Н. А. Шматко, характеризуя различия в позициях 65 российских экономистов, в той или иной мере активно участвовавших в символической борьбе вокруг программы радикальной экономической реформы (включая тех экономистов, которые участвовали в реформировании российской экономики в 90-е годы),
выделила несколько групп. (Н.А. Шматко. «Научная революция» в российской экономике как зеркало радикальной экономической реформы») «Неприкосновенный запас»№5, 2003).
В одну из них входили экономисты, располагавшие к моменту начала реформы большими бюрократическими ресурсами в Академии наук и значительным политическим капиталом. Сюда вошли главным образом академики АН СССР, занимавшие политические посты в эпоху Горбачева и предлагавшие постепенные и традиционно советские методы реформирования экономики: Л. Абалкин, О. Богомолов, Н. Петраков, Т. Заславская, А. Аганбегян и другие. Эта группу по ее воззрениям Н. Шматко называет «традиционно-градуалистической». Институционально она тяготела к Институту экономики АН СССР(ИЭ), директором которого был Л. Абалкин.
. Несмотря на то что в ИЭ работали известные советские экономисты. Островитянов, Струмилин. Немчинов, его положение в символической иерархии было невысоким: политэкономия социализма воспринималась как дисциплина, тесно связанная с марксистско-ленинской идеологией, приближенная к политике. В негласной «табели о рангах» эта отрасль экономической науки занимала подчиненное положение как по отношению к политэкономии капитализма, так и по отношению к математической экономике. Напротив, если обратиться к бюрократической иерархии, положение ИЭ было достаточно высоко именно благодаря его близости к политике и, конкретно, к ЦК КПСС. В качестве директора ИЭ Леонид Абалкин должен был возглавить разработку предложений по «усовершенствованию экономических реформ»,. Абалкину удалось собрать для этой работы группу известных советских экономистов, среди которых были Аганбегян, Арбатов, Богомолов, Ситарян; Итоговый отчет не получил широкого распространения, но благодаря проделанной работе ИЭ был назначен ответственным за научное обеспечение экономических реформ. В мае 1989 года Абалкин был назначен заместителем председателя Совета министров и возглавил Комиссию по экономической реформе. В целом, политическая и экономическая позиции Абалкина и членов его группы может быть определена как центристская. В ней сочетались централизованные методы экономического регулирования с демократическими способами управления предприятием (введение самоуправления, выборов директора и самофинансирования) и с признанием многообразия форм собственности (государственная, муниципальная, кооперативная, частная), что в итоге давало комбинацию рынка с государственным регулированием.
Теоретическая ориентация экономистов группы Леонида Абалкина была близка идеям построения социалистического рынка; они опирались на труды «рыночников» 1920-1930-х годов и авторов «косыгинской реформы», а также на работы Ленина по вопросу о НЭПе. Их теоретический базис, особенно вначале, не выходил за рамки марксизма, хотя определенное отступление от ортодоксального канона наблюдалось как в научных публикациях, так и в самом тексте предлагаемой программы реформ. Под давлением приверженцев современных теоретических течений западной мысли их теоретические основания эволюционировали в сторону неомарксизма. Вторая группа, представителей которой можно назвать «технократами -неоклассиками» включала в себя экономистов, интегрированных в академическую науку, многие из которых работали в ЦЭМИ или отделившихся от него институтах: В. Ивантер, А. Гранберг, Ю. Яременко, В. Иноземцев, Д. Львов. Профессиональная деятельность этих экономистов была связана с разработкой отдельных аспектов плановой экономики и ее математических моделей. Их отличали высокая научная компетенция и умеренно либеральная политическая позиция. Научный профиль ЦЭМИ значительно отличался от профиля ИЭ как с точки зрения исследовательских приоритетов, так и с точки зрения их истории. ЦЭМИ — более молодой и прикладной институт, созданный в 1963 году на базе Лаборатории математических методов в экономике, руководимой Немчиновым. Перед ним были поставлены задачи развития математических методов для задач управления и планирования народного хозяйства, разработки моделей оптимального хозяйствования.
Реноме ЦЭМИ основывалось на авторитете математической экономики, олицетворяемой нобелевским лауреатом Л. Канторовичем, а также его коллегами и учениками Новожиловым, Минцем, Федоренко. Институт поддерживал широкие контакты с западными учеными и имел международное признание. После 1985 года в ЦЭМИ развилась политическая активность, был организован клуб «Перестройка», ставший не только центром дискуссий о реформах, о вероятных и желаемых моделях экономики и политики, но и своеобразным центром подготовки реформаторов
Основой научного капитала этой группы являлась математическая экономика, эконометрика и моделирование, которые в СССР составляли негласную оппозицию политической экономии, динамично развивались и в целом соответствовали мировому уровню. Занимающие данную позицию экономисты были предрасположены к усвоению современных западных теорий. Вместе с тем их теоретические воззрения не вышли за рамки экономической статистики и маржинализма, моделей потоков и обменов.
На другом полюсе в подходах к реформированию экономики СССР находилась довольно пестрая группа, представителей которой объединял радикализм их экономических и политических воззрений. Большинство из них были молоды, многие представляли одно поколение студентов, которое в 1970-е годы училось на экономическом факультете МГУ, а в 1980-е — писали и защищали диссертации в ЦЭМИ; были учениками Станислава Шаталина и Гавриила Попова, но порвали связи с учителями в конце 1991 года, когда они стали основными действующими лицами в осуществлении ельцинских реформ. Среди них выделялась группа ленинградцев во главе с А. Чубайсом, в которой почти никто не принадлежал к академическим экономическим кругам, не имел докторской степени к началу реформ, не занимал до 1991 года государственных постов и Егор Гайдар с группой экономистов, претендовавших на особые модели радикальной экономической реформы и активно продвигавших свои идеи в прессе. Это В. Найшуль, Лариса Пияшева, Е. Сабуров, и другие. Для них характерны достаточно радикальные взгляды на реформу, направленные на разрыв с прошлым, относительно высокий уровень технической компетенции и как называет ее Н. Шматко, «высокая степень медиатизации». Мнение «высокопоставленных реформаторов» горбачевского «призыва» изначально классифицировалось как незначимое, поскольку не соответствовало установкам на революционные изменения. Капитал публичности измерялся поддержкой, полученной от СМИ и политических движений, и здесь «молодые реформаторы» демократически-либеральной ориентации имели большое преимущество.
Об этом свидетельствует история феерического успеха Ларисы Пияшевой после публикации ее статьи «Где пышнее пироги » летом 1987 года в журнале «Новый мир». В самой статье, точнее заметке, какого-либо серьезного анализа экономических проблем не было, но впервые было заявлено о том, что социалистическую экономику реформировать бесполезно, надо полностью перейти к рыночной экономике ( не приведи господь к капитализму. Чубайс в одном из интервью, опубликованном в 90-е годы, рассказывал, как он и его единомышленники испугались и разозлились на Пияшеву, которая преждевременно проболталась о подлинных целях либералов). После этого в либеральной публицистике появились такие убийственные аргументы, как «не надо резать хвост собаке по частям», «(а зачем его вообще резать?), или «нельзя перепрыгнуть пропасть в два прыжка» (а зачем ее перепрыгивать?) Что касается Ларисы Пияшевой, то ее статья в «Новом Мире» была первой публикацией, привлекшей внимание широкой публики. Затем последовали многочисленные публикации в разных престижных изданиях — Известиях, Огоньке и других. Рудик не переставал удивляться тому, как пришедшая в их отдел девочка с кукольным личиком и тонким голоском, ничем себя не проявившая на научном поприще, буквально мгновенно превратилась в видного ученого экономиста. С момента появления Пияшевой в отделе Рудик обратил внимание на ее абсолютную убежденность в своих взглядах и представлениях. Так она в одном из разговоров с Рудиком страстно доказывала, что не нужно заводить детей, ибо дети обедняют жизнь, мешают заниматься наукой и т.п. В то время она была замужем за типичным представителем то ли музыкального, то ли художественного бомонда и видимо разделяла взгляды, популярные в этой среде. Однако когда она спустя несколько лет вышла замуж за Бориса Пинскера, ее взгляды на роль семьи и детей кардинально изменились — она благополучно родила двоих детей. Эволюция взглядов Ларисы укладывалась в сюжет чеховской «Душечки». Впрочем, второе замужество отразилось не только на взглядах Пияшевой по отношению к браку. Она в соавторстве с мужем написала монографию, опубликованную издательством Международные отношения в серии Критика буржуазных теорий. Это было довольно забавно, поскольку авторы этой монографии не столько критиковали западных экономистов, сколько занимались апологетикой их взглядов.
В дальнейшем пути этой семейной пары несколько разошлись — Борис стал известным переводчиком и издателем работ столпов западной экономической мысли, в частности фон Хайека и Мизеса в издательстве Catallaxy, которым была опубликована в 1996 г. и монография Пияшевой «Упущенный шанс» — ну как не порадеть родному человечку! Издательство наверняка субсидировалось западными фондами, целью которых было просвещение российских граждан в правильном направлении. Забегая вперед, отметим, что в конце 90-х годов издательство закрылось (вероятно посчитав свою миссию выполненной), а следы Пинскера затерялись.
До этого брак Пияшевой и Пинскера распался. В одном из своих интервью Пияшева намекала, что одной из причин развода стала зависть Бориса к ее известности. Действительно, было чему позавидовать — российские СМИ в конце 80-х и начале 90-х годов просто жаждали взять интервью у Пияшевой или опубликовать ее статью, академики не считали для себя зазорным вступить с ней в публичную дискуссию, первый мэр Москвы Г. Попов пригласил ее работать в мэрию, она занималась разработкой альтернативной программы приватизации московских предприятий. Но вследствие политической борьбы и интриг (в основном подковерных) между различными группами российских реформаторов Пияшева вынуждена была уйти из московской мэрии. Она перешла на преподавательскую работу и продолжала много заниматься публицистикой. К этому жанру можно отнести появившийся под ее именем так называемый «Либеральный Манифест». Хотя стиль этого опуса явно напоминает известный манифест Маркса и Энгельса, но скорее как пародия, а не солидное подражание. В содержания Манифеста не было ничего нового — Пияшева повторила основные тезисы Ф.фон Хайека, которого она назвала великим идеологом либерализма По ее утверждению (она не дает цитату из своего гуру в кавычках), Хайек считал, что путь к социализму, демократическому или диктаторскому, эволюционному или революционному, с человеческим лицом или тоталитарным оскалом ведет не к экономическому благосостоянию и не к социальному и духовному возрождению. Это путь нового тоталитаризма, нового подавления, насилия и рабства. Пияшева живописала все ужасы советского строя с таким вдохновением, что ей могли бы позавидовать самые выдающиеся сотрудники западных радиоголосов времен разгара холодной войны. Но манифест, написанный по поручению очередной правой партии в России и истерично призывавший российских граждан голосовать за свободу, то бишь за либералов, не произвел на электорат должного впечатления и политическая карьера Пияшевой на этом завершилась.
И тем не менее, в ее феномене остается много загадок. Открытым остается вопрос, что в ее публикациях написано ею, а что ее мужем Пинскером и многочисленными журналистами с громкими именами — А. Стреляным в Новом Мире, В. Селюниным в Известиях, А. Бородаевским, имевшем богатый опыт редактирования со времен своей работы в МЭиМО. Ряд высказываний Пияшевой дает повод сомневаться в высоком уровне ее профессиональной компетенции. Так, «Огонек» давал такой прогноз Л.Пияшевой: «Если все цены на все мясо сделать свободными, то оно будет стоить, я полагаю, 4-5 руб. за кг, но появится на всех прилавках и во всех районах. Масло будет стоить также рублей 5, яйца — не выше полутора. Молоко будет парным, без химии, во всех молочных, в течение дня и по полтиннику» — и так далее по всему спектру товаров. Молоко парное (!) в течение всего дня — не чудеса ли. Буквально в то же время в том же «Огоньке» Л.Пияшева писала: «Никто и нигде не может заранее знать, какие цены установятся на землю, дома, оборудование, даже на сырье и потребительские товары». Никто не может знать, а она знала — до копейки. Весь этот прогноз — манипуляция. Она вопиюще груба, мясо быстро поднялось в цене до 20 тысяч (!) рублей. Через десять лет в одном из своих интервью Пияшева пыталась переложить вину за свой несбывшийся прогноз о росте цен на Гайдара, который провел либерализацию цен не так, как следовало ее осуществить. Удивительно, что перестроечные СМИ относились к Пияшевой с намного большим пиететом, чем их читатели и слушатели. В рейтинге 50 наиболее популярных публицистов, составленном по итогам опроса населения в конце 80-х годов, Пияшева отсутствовала. На первом месте оказался Н. Шмелев, автор нашумевшей статьи «Авансы и Долги», опубликованной месяцем ранее статьи Пияшевой в том же «Новом мире». Не «повезло» не только Пияшевой, но и М. Горбачеву, (которого тоже можно назвать публицистом — только в 1985 году у него было более 40 публичных выступлений), его участники опроса поставили на 39 место. Ну а Л.Пияшева все же стала доктором экономических наук и признанным «экспертом» в области экономики.
Примечательно, что в классификации Н. Шматко, за исключением Пияшевой, не нашлось места для сотрудников ИМЭМО, ИМРД и других институтов, которые занимались международной проблематикой. В брежневские времена они были более или менее независимы в конкретных формулировках своих исследовательских задач и сыграли немалую роль в размывании фундамента государственной партийной идеологии. При этом неявным образом эти институты стали влиять на генеральную линию партии. Тем не менее, ни Яковлев, который вернулся в ЦК с поста директора ИМЭМО, ни директор ИСКАН Арбатов не смогли (или не захотели) привлечь ведущих сотрудников этих институтов к активному участию в разработке реформ.
В целом, по мнению Н. Шматко, можно говорить о перевороте в российской экономической науке, который внешне проявился в радикальной смене легитимных научных схем, а на социальном уровне обнаружил себя как изменение модели научного признания и системы распределения властных полномочий в научном сообществе.
Подводя итоги своего исследования, Н. Шматко пришла может быть не к бесспорным, но интересным выводам
Научная революция в российской экономике началась в конце 1980-х годов с констатации несостоятельности советских экономических подходов и нежизнеспособности директивного планирования, а окончилась радикальным изменением разделения научного труда и становлением новых способов доминирования. Жесткая конкуренция на закрытых рынках частичной научной занятости (разработка программ реформ) и радикальная политическая позиция российского правительства подтолкнули экономистов к более четкой теоретической идентификации, нежели в середине 1980-х годов. Монетаризм и неолиберализм рассматривались как определенные реперы, по отношению к которым начало выстраиваться пространство научных позиций.
Разделение труда между исследовательскими организациями стало складываться таким образом, что новые «коммерческие» институты специализировались в основном на проблемах рынка, менеджменте и маркетинге. Их сотрудники создали и освоили новый сектор «рынка экономического труда» — экспертизу, которая заменила и практически вытеснила прежние фундаментальные исследования. Эксперты «независимых» институтов чаще привлекались правительственными структурами к разработке и оценке экономических проектов, чем их коллеги из академических и университетских структур. При этом многие экономисты работали одновременно в государственных и «независимых» институтах. Именно они сумели утвердиться на возникающем рынке экспертизы, тогда как сотрудники старых исследовательских учреждений утратили былую легитимность и политическое доверие. Экономисты, ранее специализировавшиеся на международной экономике и, точнее, на англосаксонских странах, более успешно трансформировались в «экспертов», нежели их коллеги, специализировавшиеся на математических моделях или политической экономии. Импорт неолиберальной англосаксонской модели в Россию в настоящее время является фактом, признаваемым в среде самих экспертов.
Экономическая компетенция стала новой ставкой в поле политики. Успешно пройдя неолиберальную трансформацию, часть новообращенных ученых заняла позиции в центре сегодняшней политической жизни. Их практики перевернули иерархию экономической науки: ныне экономисты, решающие политические задачи и непосредственно интегрированные в политику («милитанты»), занимают верхние позиции профессиональной пирамиды, тогда как ученые-экономисты традиционного «академического» типа оказались внизу.
В борьбе за навязывание определенного видения экономической реформы одним из главных факторов стала поддержка СМИ, ориентированных на содействие революционно-радикальным реформам и на отвержение эволюционного подхода. В этой борьбе столкнулись две формы компетенции: техническая и социальная. Если за позициями Абалкина и Шаталина закреплялась характеристика обладателей высокой технической компетенции, распространяющейся на знание старого – советского — устройства экономики и политики, а потому девальвировавшейся и потерявшей социальное признание, то позиции Гайдара приписывалось как основное достоинство именно отсутствие такого багажа. Техническая компетенция данной позиции весьма отличалась от компетенции «старых экономистов», в силу того, что они специализировались на престижных «западных» предметах. Все те ресурсы, которые в советский период придавали силу и власть их обладателям: руководящие посты в академической или административно-политической иерархии, звания, научная и практическая компетенция, — приобрели отрицательное значение в ситуации поздней перестройки. Напротив, неучастие в советских структурах управления экономикой стало социальным ресурсом революционно-технократической позиции.
При достаточно детальном анализе сообщества экономистов за его пределами, как представляется Рудику, Н. Шматко оставила достаточно заметную группу»экспертов», которая обеспечивала идеологическое обоснование радикальных реформ. Эти экономисты пытались доказать, что социализм или его отдельные элементы успешно реализуются в развитых капиталистических странах и поэтому надо ориентироваться на западный вектор развития. Фактически за социалистической фразеологией здесь скрывалась идея перехода к противоположному строю. В другом варианте эта идея формулировалась в том ключе, что «честный социалист обязан помочь стране уйти от преждевременного социализма», поскольку социализм — дело отдаленного будущего.
Одним из пропагандистов этого направления «экономической мысли» стал старый знакомец Рудика, Лев Любимов. В июне 1989 г. в «Литературной газете» появилась его статья «К какой системе принадлежат США?», в которой он в частности утверждал, что «старательно выписанные многими авторами представления, что достижения США в социальной сфере — результат классовой борьбы и следствие умелого маневрирования бизнеса и властей, безусловно устарело. Такое объяснение оставляет за чертой все более существенную трансформацию всей системы производственных отношений, отнюдь не совпадающую с коренными интересами вчерашнего правящего (господствующего) класса». Хотя автор этой статьи еще пару лет назад до ее публикации возглавлял отдел США и Канады в ИМЭМО, приведенные им факты, призванные убедить читателя, что если социализм где-то существует, то это в США, свидетельствовали или о весьма поверхностном знакомстве автора с американскими реалиями или с намеренным их искажением. В частности Любимов, как и многие другие, игнорировал историческую специфику американского капитализма, обусловившую высокую стоимость рабочей силы на раннем этапе развития Америки. В отличие от европейских стран у наемного работника в США была возможность получить фактически даром участок земли на новых территориях и для того, чтобы удержать его, американским капиталистам приходилось платить рабочим сравнительно высокую зарплату, что в свою очередь, побуждало их инвестировать большую, чем в Европе, часть капитала в новое оборудование.
Информация. В 1862 году в США принят «Гомстед-акт», согласно которому каждый гражданин США, достигший 21 года и не воевавший на стороне Юга против Севера, мог получить из земель общественного фонда участок земли не более 160 акров (65 гектаров) после уплаты регистрационного сбора в 10 долларов. Поселенец, приступивший к обработке земли и начавший возводить на ней строения, получал бесплатно право собственности на эту землю по истечении 5 лет. По Гомстед-акту в США было роздано около 2 миллионов гомстедов общей площадью около 115 миллионов гектаров, что составляет около 12% территории страны.
Рудик написал статью, в которой раскритиковал Любимова. Но она пришлась не ко двору в Литературке, а затем и в Известиях. К этому времени «гласность» превратилась в улицу с односторонним движением и статьи в защиту социализма стали неуместными. В последующие годы Любимов стал вместе с Ясиным и Кузьминовым одним из инициаторов создания Высшей Школы Экономики (ВШЭ) — превратившейся в цитадель российских либералов-экономистов. Очевидно, что Всемирный Банк, финансировавший ее деятельность на первом этапе, учел эту ориентацию руководителей ВШЭ. Деятельность Любимова по созданию системы обучения экономистов, «свободной от марксистских традиций» была отмечена на Западе избранием его членом «Международной академии лидеров бизнеса и предпринимательства». Как сказано в дипломе, подписанным президентом Клинтоном, Любимову было присвоено это почетное звание «за вклад в создание новых эффективных организаций в кризисный период». Звучит довольно туманно, но в контексте публикаций и выступлений Любимова в конце 80-х и в 90-е годы, вполне понятно, за что он заслужил похвалы американского президента.
По сути попытка поспорить с Любимовым осталась единственным случаем вовлечения Рудика в происходившие в тот период жаркие дискуссии в сообществе экономистов. Как и большинство его коллег в гуманитарных экономических институтах, он был озабочен обеспечением хлеба насущного. Девальвация зарплаты становилась все более явственной и каждый сотрудник был озабочен не столько выполнением институтских планов научной работы, сколько поиском возможностей заработка вне института.
По мнению известного социолога Г. Батыгина, маргинализация научного сообщества была предотвращена в конце 1980-х гг., во-первых, официальным разрешением совместительства и, во-вторых, неофициальным разрешением ходить на работу время от времени (в предшествующие десятилетия академические обществоведы тоже не часто приходили в институты).
Г. Батыгин отметил, что хотя наука вскоре стала самым неприбыльным занятием, совместительство помогло закрепить состояние перманентного кризиса и в то же время сохранить видимую социальную идентичность сотням тысяч научных сотрудников и преподавателей. У них появилась уникальная возможность «получать зарплату» и одновременно зарабатывать деньги где только можно. Многие из них (по ориентировочной оценке Г. Батыгина 50-70% обществоведов) смогли использовать для зарабатывания денег «на стороне» свои профессиональные знания.
В 2000 г. официальная зарплата «бюджетного» экономиста — научного сотрудника и преподавателя составляла 30-100 долларов в месяц, но доходы превышали величину зарплаты в несколько раз. Московские университеты и исследовательские институты находились в более благоприятном положении, но и в регионах система науки и образования адаптировалась к рынку разными способами. Например, ректор одного из региональных университетов является хозяином городского рынка (здесь трудно понять, какая работа основная). (Г.С. Батыгин. Невидимая граница: Грантовая поддержка и реструктирование научного сообщества в России. Науковедение №4 2000 г.)
Рудик не избежал всеобщего поветрия — он тоже искал возможности заработка на стороне. Вначале это были случайные лекции в появившихся консультационных центрах, где слушатели хотели научиться играть на бирже, затем, после встречи с бывшим однокурсником Виктором Кокоревым Рудик стал сотрудничать с его фирмой под типичным для тех времен названием «Консультативно-внедренческое и научно-производственное кооперативное объединение «Ризальт -2» Почему «2», Рудик не знал, очевидно «1» почил в бозе. Кокорев решил освоить нишу консультирования местных органов власти по экономическим и финансовым вопросам в условиях формирующейся рыночной экономики. Законодательная база практически отсутствовала и в регионах лихорадочно искали любую информацию, которая могла бы стать ориентиром в условиях рынка. Кокорев предложил Рудику подобрать зарубежные материалы, которые могли бы представлять интерес для отечественных земцев, посулив неплохой заработок. У него по всей вероятности были связи с банковским сектором, а может быть и «крыша» какой-нибудь ОПГ. Заработок у Кокорева был непредсказуем и непостоянен (зачастую он приветствовал своих сотрудников при появлении в его конторе фразой «деньги будут послезавтра»), но эти деньги были существенным подспорьем для семейного бюджета в условиях растущей инфляции. Затем Рудик подключил Веселовского к сотрудничеству с Кокоревым и у них появился общий источник «головной боли».
И все же эта «головная боль» не была единственной и самой важной. Несмотря на растушую неразбериху как в стране в целом, так и в академических институтах, Рудик, как, впрочем, и многие другие его коллеги в институте, продолжали то ли по инерции, то ли по привычке, заниматься наукой. Рудик переключился в основном на подготовку обзоров для ИНИОНА. Темы можно было выбрать самому и Рудик не без удовольствия продолжал удовлетворять свою любознательность за счет государства. Он написал почти целиком (обзор французской литературы написал коллега Рудика в отделе Виктор Люблинский) сборник о социальной мобильности в развитых капиталистических странах. В иное время этот сборник мог бы стать основой очередной монографии, но было не до монографий…
Поездки с лекциями от общества «Знание» прекратились, одной из последних, а может и последней, стала экзотическая поездка в Туркмению, в Красноводск. До этого Рудик не был ни в одной из среднеазиатских республик. Красноводск был лишь своего рода «черным ходом» в Среднюю Азию, но все равно было очень интересно -Рудик побывал в Небит — Даге, в поселке на Карабугаз -Голе, обитатели которого жили в жутких условиях, несколько раз искупался в Каспийском море. Из общения с местными аборигенами он узнал любопытный факт — оказывается, размеры калыма были обратно пропорциональны уровню образования невесты. Самый скромный калым получали родители невесты с высшим образованием, а самый высокий соответственно невесты, которая училась только в начальных классах. Наиболее запоминающим событием этой поездки стал «набег» Рудика на Баку. Он узнал, что каждый вечер из Красноводска уходит морской паром, который утром следующего дня прибывает в Баку. Выторговав в местном отделе «Знания» выходной на воскресный день, после последней лекции в субботу Рудик прибежал на пристань и, взяв билет на палубу, отправился в Баку. Ему повезло, погода была хорошая (это было в начале мая) и он , хотя провел бессонную ночь, приступил к осмотру столицы Азербайджана. За день удалось увидеть немного, но основные достопримечательности Рудик посмотрел, проехался на метро, посетил ресторан и побежал обратно в порт — ему было нужно утром вернуться в Красноводск — в понедельник планировалась поездка в Небит-Даг, где Рудик должен был прочитать несколько лекций. В целом в поездке в Туркмению Рудик заработал довольно скромную сумму, однако это путешествие в силу обилия впечатлений дорогого стоило.
Но главная «головная боль», точнее «букет» негативных эмоций был связан с происходившими в стране событиями. В 1990 году бесславно закончилась вся перестройка — была пройдена точка невозврата, кризис неумолимо вел к полному коллапсу экономики. Еще в 1989 году существовала возможность круто поменять курс. Это понимали даже либералы, тот же Лопатников, отметил, что в рамках «ответственной макроэкономической политики», включающей повышение налогов и розничных цен можно было избежать краха экономики СССР. По мнению Лопатникова, «как это ни парадоксально, развитие демократии в тот момент препятствовало проведению такой политики. Уже в первой половине 1989 г. союзное правительство попало под жесткий контроль избранного демократическим путем депутатского корпуса, в котором доминировали популистские настроения. М. Горбачев и правительство просто не могли принять непопулярные меры, если намеревались остаться у власти. Обнаружив, что от былой популярности не осталось и следа, правительство отложило пересмотр цен, и стало ясно, что оно на такой шаг больше не пойдет». Стремление Горбачева сохранить свой имидж как великого демократического реформатора привело вскоре к трагическому для страны исходу.
Последний год перестройки запомнился «парадом суверенитетов» союзных и автономных республик, в первом ряду которого по своему значению была декларация о суверенитете России, принятая республиканским Съездом народных депутатов в июне 1990 года. Справедливости ради надо отметить, что формальное начало фактическому распаду Союза положила принятая в ноябре 1988 года Верховным Советом Эстонии Декларация о суверенитете. Затем последовало принятие аналогичных Деклараций в апреле и июле 1989 г. соответственно в Литве и Латвии, в Грузии, где после апрельских событий 1989 года национализм цвел особенно пышным цветом, Верховный Совет в мае 1990 года не только провозгласил суверенитет республики, но и осудил «акт оккупации Грузинской Демократической Республики в 1921 году со стороны Красной Армии». В 1990 году парад суверенитетов продолжился — в марте, на выборах в ВС Литовской ССР полную победу одержало откровенно националистическое движение «Саюдис». Новый Верховный Совет принял Декларацию о восстановлении независимости Литвы, подразумевающую ее выход из состава СССР. На территории республики было прекращено действие Конституции СССР и возобновлено действие литовской Конституции 1938 года. Таким образом, Литва стала первой из двух союзных республик, объявившей независимость, второй стала Грузия. Независимость Литвы тогда не была признана ни центральным правительством СССР, ни зарубежными странами. В ответ на литовскую Декларацию о восстановлении независимости союзным правительством в середине 1990 года была предпринята «экономическая блокада» Литвы, но осуществлялась она достаточно формально
В Декларациях о суверенитете, принятых в большинстве союзных республик, (за исключением Литвы) не говорилось о выходе из Советского Союза, но это было, мягко говоря, лукавством. Независимость подразумевает полный суверенитет, а в этих Декларациях, в частности российской, провозглашался приоритет республиканских законов и Конституции перед законами и Конституцией СССР. Создается такое впечатление, что тысяча с лишним депутатов российского съезда, одобривших этот документ, (13 депутатов проголосовали против, еще 9 воздержались), не ведали, что натворили. Конечно, сыграла свою роль игра на чувстве «за Россию обидно». Ельцин, выступая на съезде, говорил о том, что производительность труда в России, выше, чем в других республиках, а социальные расходы на душу самые низкие. В СМИ муссировалась тема дотирования всех республиканских бюджетов, за исключением России и Туркмении, из союзного бюджета. Всерьез об объективных причинах этого перекоса никто не упоминал. А перекос объяснялся довольно просто: неэквивалентным обменом в силу несоответствия внутренних цен мировым ценам. Вся штука в тогдашнем ценообразовании. На товары, которые выпускал Азербайджан, Казахстан или Узбекистан, были низкие цены. Вот, например, на хлопок были мизерные цены — хлопок в мире стоил полторы тысячи долларов за тонну в среднем, а он в СССР был в десятки раз дешевле. Конечно, Узбекистан был дотационным.
Примечательно, что почти во всех союзных республиках большинство мандатов в Верховных Советах принадлежало коммунистам, председателями Верховных Советов стали первые секретари ЦК республиканских компартий (за исключением Молдавии и Украины, где этот пост занял Кравчук — секретарь ЦК по идеологии Компартии Украины). При этом некоторые из них стали объявлять себя и республиканскими президентами. И с Горбачевым и союзным правительством они с лета-осени 1990 года стали говорить совсем иным тоном, нежели еще год назад, упирая на свой республиканский «суверенитет», подтвержденный «волей народа». Правда о выходе из СССР говорить они еще побаивались — в Латвии и Эстонии ограничились обвинением СССР в оккупации в 1940 г. и декларацией о восстановлении государственности.
После того, как Ельцин в порыве необыкновенной щедрости, обращаясь к автономным республикам, произнес фразу, ставшую исторической -«берите суверенитета, сколько проглотите»- волна сепаратистских настроений охватила всю Россию. Воодушевлённые такой вседозволенностью, в других республиках решили воспользоваться случаем. На полном серьезе о независимости раздумывали в Татарстане, Тыве, Чечне, Башкирии и даже на Урале и в Сибири. По всем союзным республикам начались межэтнические конфликты, до погромов с особо жёсткой расчленёнкой дошло в Ферганской долине, Нагорном Карабахе, Молдавии, Баку и Душанбе. Местная номенклатура, до того имевшая с националистами второстепенные общие интересы, поимела общие проблемы и принялась активно дружить, играя против Центра и особенно против соседей. Но то были цветочки. То, что так долго гнило и так недолго тлело — вдруг вспыхнуло.
Поэтому у Лопатникова и других либералов есть основания для утверждений о вине коммунистов в развале СССР, но с одной принципиальной поправкой — виновата в развале Советского Союза не Коммунистическая партия в целом, а партийно-государственная номенклатура. Республиканские элиты с завистью смотрели на союзную элиту, которая активно участвовала в процессе «спонтанной» приватизации наиболее лакомых кусков государственной собственности. Особенность этого этапа состояла в том, что приватизация развивалась «снизу» и не контролировалась государством «Стихия спонтанной приватизации, почти неограниченной никакими законодательными рамками, захлестывает то один, то другой район. Ситуация усугубляется полной неразберихой в распределении функций власти между различными органами административного и советского управления в центре и на местах, разрушением механизма регулирования экономики по вертикали, распадом хозяйственных связей» (В. Виноградов, С. Веселовский. Какая приватизация нам нужна? 1991). Так, руководители союзных республик отказывались перечислять налоги в Центр и настаивали на переходе к так называемой одноканальной системе, при которой республика собирает все налоги самостоятельно и лишь определенную часть средств переводит в Центр. При этом они требовали усиления собственного контроля за расходами союзного правительства. Особую остроту приобрел вопрос о статусе предприятий союзного подчинения. Республиканские элиты по вполне понятным причинам были заинтересованы в том, чтобы перевести максимальное число этих предприятий из союзного в республиканское подчинение, сулили директорам этих заводов и фабрик солидные налоговые льготы в случае изменения статуса. В развернувшейся «войне законов» между республиками и центром особенно активно наряду с Прибалтикой и Грузией проявляло себя руководство «суверенной» РСФСР. Одним из проявлений «фронды» российского руководства по отношению к союзному центру стал фактический саботаж и без того весьма условного решения о блокаде Литвы после принятия в ней декларации о независимости.
У России был специфический статус во всей иерархии партийно-государственной номенклатуры в СССР. В отличие от других республик, в России не было до 1990 года республиканского ЦК партии, в подчинении республиканского Совета министров находились в основном предприятия местной промышленности, все крупные машиностроительные заводы были предприятиями союзного подчинения. Российский МИД был чисто декоративным органом — помимо представительства в ООН он занимался только вопросами оформления документов для зарубежных поездок. Вполне естественно, что российская партийная и государственная элита с завистью наблюдала за тем, как их коллеги из союзных министерств и ведомств и аппарата ЦК используют открывшиеся возможности для обогащения в рамках спонтанной приватизации. На месте распадавшихся союзных министерств и ведомств создавались государственно-монополистические структуры коммерческого типа (холдинги, ассоциации, концерны и др.), которые возглавили высшие чиновники, руководители крупных ведомств, министры, заместители министров, руководители государственных отраслевых банков, госкомитетов, госснабов и других бывших крупных управленческих структур.
На приватизированные партийные и комсомольские деньги создавались закрытые акционерные общества, совместные предприятия, коммерческие банки, например, такие как «Менатеп», «Инкомбанк», «Главмосстройбанк» и др. Этот процесс осуществлялся очень скрытно. Никто из «первых лиц» КПСС и ВЛКСМ в краях, областях и крупных городах не стремился к публичности. По экспертным оценкам, около 10 % серьезных коммерческих структур были учреждены партийно-комсомольской номенклатурой. В российской печати были опубликованы данные, что в 90-е годы активно работало от 600 до 1000 фирм и компаний, образованных на приватизированные партийные деньги.
Если на демонстрациях демократы шли с лозунгами «Партия, дай порулить», то многие из народных депутатов Российского съезда, голосовавших за Декларацию о Суверенитете России, могли бы сказать: «ЦК и Совмин — дайте и нам прихватить» Российский социолог О. Крыштановская, специалист по российской элите, отметила, что в конце 80-х годов происходила своего рода «приватизация государства государством» — процесс, в рамках которого государственные (и можно с полным основанием добавить — партийные), чиновники, пользуясь своей властью, приватизировали государственные структуры, которыми распоряжались.
О. Крыштановская так описала этот процесс: он начался в 1987 году и в основном закончился к началу официальной приватизации «для народа». Важнейшими направлениями этой номенклатурной приватизации были: трансформация системы управления экономикой; трансформация банковской системы; трансформация распределительной системы; приватизация наиболее рентабельных предприятий, превращение министерств в концерны. В результате этой метаморфозы, как правило, происходило следующее: министр отправлялся в отставку или обретал статус консультанта концерна. Президентом концерна становился один из заместителей министра. Концерн приобретал юридический статус акционерного общества.
Держателями акций наряду с государственными предприятиями, находившимися в ведении бывшего министерства, становились некие физические лица— руководство концерна-министерства. То есть собственность, находящаяся в распоряжении руководства министерства, становилась частной собственностью. Таким образом, государственный чиновник не просто приватизировал, а «для себя приватизировал» вверенную ему организацию.
Из многочисленных примеров номенклатурной приватизации, приведенных в работе О. Крыштановской, одним из самых впечатляющих является приватизация недвижимости и других объектов инфраструктуры, принадлежавших КПСС.
В советский период КПСС являлась собственником множества зданий, где располагались партийные комитеты, партийные издания, Дома политического просвещения, пансионаты, дома отдыха, коммунальные службы, жилые помещения, гостиницы. Именно эти находящиеся на балансе партии сооружения были «золотым фондом» страны— лучшие здания, расположенные в самых удобных и престижных местах. В период перестройки номенклатура стала получать прибыль от аренды этих помещений. Лучшие пансионаты, поликлиники, дома отдыха, гостиницы сдаются иностранным фирмам. Активно создаются совместные предприятия. По расположению фирмы можно судить о ее близости к партийной элите прошлого. В результате номенклатурной приватизации отмечает автор,
появилась новая элита, пока еще во многом совпадавшая с партийной, выросшая из ее недр, но уже не тождественная ей. Политическая реформа, осуществленная Горбачевым и его сторонниками, не только привела к значительному уменьшению объема власти КПСС, но означала, по сути дела, крах номенклатуры. (О. Крыштановская Трансформация старой номенклатуры в новую российскую элиту. Общественные науки и современность. №1 1995 г.)
Разумеется, во всех перипетиях конфликта между союзной и российской элитой отражался и личный конфликт между Горбачевым и Ельциным. Последний, глубоко уязвленный устроенной ему публичной «поркой» в 1987 году, был одержим жаждой реванша. Он хотел лишить Горбачева имиджа «великого реформатора», да и проводимые под руководством Абалкина экономические реформы его не устраивали – ему был нужен быстрый результат.
В конце июля 1990 г. состоялась встреча М.Горбачева и Б.Ельцина, они договорились о разработке экономической программы, альтернативной правительственной. Была создана комиссия под руководством академика С.Шаталина и заместителя Председателя Совмина РСФСР Г.Явлинского. Это была программа «500 дней». Она нацеливала на быстрый и решительный переход к рынку, смелое введение различных форм собственности, быструю приватизацию. Однако Горбачев отдал предпочтение программе правительства, которая, не отрицая необходимость перехода к рынку, стремилась растянуть этот процесс на длительный срок и оставить значительный государственный сектор в экономике. «Но «процесс, как отметил А. Зиновьев, вышел из-под контроля властей, превратив их в своих марионеток и навязав им форму поведения, о какой они и не помышляли ранее». (А. Зиновьев. Интеллектуальный эксгибиционизм. На пути к сверхобществу. С.452)
Ну а как реагировал на это советский народ? Многие, как в детском стишке К.Чуковского, «подхватили чемоданы и пустились со всех ног на утек» И первыми по числу эмигрантов из СССР стали советские евреи.
Осенью 1989 года буквально «открылись ворота»: подавляющее большинство евреев практически беспрепятственно могло по израильской визе выехать на доисторическую Родину. Еще отбирали у евреев советское гражданство, сохранялись жесткие ограничения на вывоз валюты, произведений искусства и т.д., но уже не клеймили на собраниях, не заставляли годами ждать разрешения на выезд. И народ рванул – у ОВИРА и израильского консульства выросли огромные очереди, в которых рассказывались всякие побасенки о жизни в Израиле, о том, что надо везти и как распродать нажитое за долгие годы, о реальных и выдуманных фактах антисемитских выходок фашистов из «Памяти».
Рудик наблюдал за этим процессом со стороны, не догадываясь, что вскоре и он со своей семьей окажется в этом потоке. Дочка, у которых несколько подруг из еврейских семей уже уехали или собирались в дальний путь, время от времени спрашивала: все уезжают, когда мы уедем? Рудик отмалчивался, стиснув зубы. Но «еврейская тема» неожиданно возникла с другой стороны. Как это часто бывает в жизни, «демон случайности» оказался проворнее «демона причинности». Сын Рудика после армии поступил на заочное отделение историко-архивного института. Надо было устраиваться на работу, хотя бы отдаленно соответствующую будущей профессии. И вот однажды жена Рудика прочла на столбе объявление о том, что в государственном архиве народного хозяйства (ЦГАНХ) требуются сотрудники. Сын отправился по указанному в объявлении адресу. Оказалось, что этажом ниже в этом здании располагался другой архив — ЦГАОР (архив октябрьской революции), в который сын решил заглянуть (ему этот архив показался интереснее), прежде, чем подняться на следующий этаж, где располагался ЦГАНХ. И сыну повезло -в ЦГАОР тоже были вакансии (желающих работать в архиве с нищенской зарплатой было немного). Сын попал в хранилище документов профсоюзов и общественных организаций, и надо такому же случиться, что среди этих документов был архив Еврейского антифашистского комитета (ЕАК), который многие годы был недоступен историкам. Свободного времени у сына в архиве было много и он стал не просто читать эти документы, но и делать выписки, а затем выбрал для дипломной работы тему истории ЕАК. Один из разделов дипломной работы стал основой для первой в жизни сына статьи, опубликованной в «Еврейской Газете». Но на этом счастливые совпадения не закончились. В Москву приехал профессор израильского университета из Беер Шевы Шимон Редлих, который искал архивные материалы для своей книги о ЕАК. Эти поиски его привели в ЦГАОР, где он познакомился с сыном Рудика, который помог профессору найти интересующие его материалы. Редлих несколько раз приезжал в Москву и однажды даже на несколько дней останавливался у Рудика. Впоследствии это знакомство повлияло на дальнейшую жизнь Рудика и его семьи, но не будем забегать вперед.
Последним заметным событием в жизни Рудика в 1990 году стало участие в октябрьской демонстрации. Он, как и остальные сотрудники института, мог игнорировать это протокольное мероприятие. Иногда в эти дни он дежурил в институте, зарабатывая необходимые для лекционных поездок отгулы, но чаще дома смотрел на военный парад и демонстрацию по телевизору. Однако в 1990 году, Рудик решил принять участие в демонстрации. В институте ему вручили красный флаг, который он после демонстрации «приватизировал» и поставил в коридоре своей квартиры. В отличие от студенческих времен, когда Рудик ходил на демонстрации вместе со своими товарищами по институту, праздничной атмосферы не ощущалось, было меньше портретов и лозунгов как в самих колоннах, так и на фасадах домов, расположенных по маршруту движения демонстрантов. Колонна, в которой Рудик вышел на Красную площадь, оказалось крайней слева по ходу движения, рядом с ГУМом. Неожиданно от Гума к колонне в метрах 50 от Рудика рванулись милиционеры и люди в штатском, которые вытащили из колонны какого-то человека и увели его. Только из вечерних известий по телевидению, стало известно, что во время демонстрации была попытка покушения на Горбачева. В программе «Время» довольно туманно сообщили, что «Во время праздничной демонстрации 7 ноября на Красной площади в районе ГУМа прозвучали выстрелы. Задержан житель Ленинградской области, произведший из обреза охотничьего ружья два выстрела в воздух. Пострадавших нет. Ведется расследование».
Позже стало известно, что это был слесарь Александр Шмонов из города Колпино под Ленинградом. Он был ярым противником происходящих в стране перемен. Руководителей СССР Шмонов считал обманщиками и врагами народа. Ведь при них упал уровень жизни, выросли цены, исчезли с прилавков самые необходимые товары. Но сильнее всех он возненавидел человека, затеявшего перестройку. Шмонов вступил в социал-демократическую партию России. Действовал он в то время весьма сознательно, решив бороться с ‘тоталитарным режимом’. Увлекшись экстремизмом, Шмонов двигался все дальше, и вскоре его листовки с призывами уничтожить власть, изобиловавшие грамматическими ошибками, можно было встретить по всему Колпино. Главным ‘врагом’ Шмонова стал Горбачев
В октябре 1990 года Шмонов получил охотничий билет с правом ношения оружия. Купил немецкое двуствольное ружье и отпилил часть приклада. Получился обрез, который помещался в специально сшитом кармане пальто. Застрелить генсека Шмонов решил 7 ноября 1990 года, во время традиционной демонстрации. Позже выяснилось, что Шмонов продумал все до деталей – в брюках у него даже нашлась записка: ‘На случай моей смерти сообщаю, что я хотел попытаться убить президента СССР Горбачёва М. С.
Милиционер, дежуривший в тот день на Красной площади, обратил внимание, что один из демонстрантов замедлил шаг. Он повернулся в сторону мавзолея и вскинул вверх какой-то блестящий предмет. И тогда милиционер, еще не понимая, что собирается делать человек в длинном пальто, бросился к нему, схватил ствол и вскинул его вверх. Раздался выстрел, но пуля улетела в небо, милиционер наклонил ствол вниз и пуля после второго выстрела ушла в землю.
Дело Шмонова закончилось весьма традиционно — Московский городской суд направил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу с усиленным наблюдением. После выписки Шмонов получил инвалидность II группы. Жена его развелась с ним еще когда он был в клинике. Позже он устроился работать сантехником, а затем основал ремонтно-строительную фирму. Еще позже Шмонов вновь проявил политическую и общественную активность и даже предпринял попытку баллотироваться в Государственную Думу, но избирательная комиссия его не зарегистрировала, сославшись на большое число фальсифицированных подписей. После этого он написал и издал за свой счет книгу под названием ‘Как и почему я стрелял в главаря тоталитарного государства М. Горбачева’. Он стал правозащитником и создателем нескольких общественно-политических движений. Через много лет Шмонова спросили, жалеет ли он о том, что сделал. Он ответил, что жалеет, но потому что не довел до конца дело, которое задумал. В историю он вошел как «последний террорист Советского Союза». На героя этот исторический персонаж не тянет, в голове у него каша и похоже, что в психушку он попал по делу.
А Рудик, как и все другие демонстранты, благополучно добрался домой и отметил вместе с семьей праздник. Традиционно на праздничном столе можно было увидеть дефицитные яства из заказов, выданных по месту работы: шпроты, копченую колбасу, плавленый финский сыр. Этот праздник давно потерял политическую окраску и рассматривался в большинстве семей как повод для семейных посиделок, на которых можно было расслабиться, обсудить семейные дела и планы. Так было и в 1990 году — все старались хоть на время забыть о тревожных симптомах неблагополучия в стране, и мало кто мог предположить, что этой стране под названием СССР осталось жить чуть больше года…
Продолжение следует.
Иллюстрация: 006-itogi-perestroiki