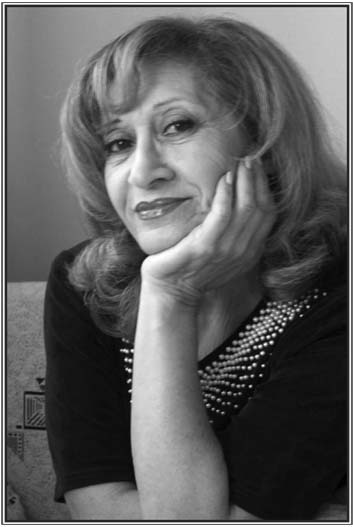ОТ МЕЧТЫ — К РЕАЛЬНОСТИ
Интервью нашего корреспондента Ларисы Мангупли
с академиком, профессором, доктором технических наук
Олегом Фиговским
Прежде, чем начать интервью, представляю читателям моего собеседника: Олег Фиговский – основатель Международного исследовательского центра нанотехнологий – INRC Polymate и журнала Scientific Israel – Technological Advantages. Новые технологии, разработанные профессором, послужили основой для создания промышленного производства не только в Израиле, но и в США, Канаде, Китае, Мексике и России. Он – член Европейской академии наук, зав. кафедрой ЮНЕСКО «Зелёная химия», член Президиума Российского нанотехнологического общества. Он – Почётный профессор Воронежского университета и Казанского государственного технического университета, почётный доктор Казанского государственного технологического университета. Олег Фиговский – главный редактор журнала “Innovations in Corrosion and Materials Sciences” (США) и член редколлегий более десяти международных журналов.
Все звания и должности этого учёного просто не перечислить. Он автор двадцати пяти книг на английском и русском языках, более 600 научных статей и обзоров и более 520 изобретений во многих странах мира. За свои изобретения в области нанотехнологий награждён золотыми и серебряными медалями международных выставок изобретений, призом IFIA “Gold Angel Prise”, орденом «Инженерная слава». А как самый активный автор научно-популярного и литературного-художественного журнала «Наука и жизнь Израиля» недавно был удостоен медали «Святая Земля Израиля», учреждённой этим журналом.
— Здравствуйте, Олег Львович. Я представила Вас читателям, лишь пунктирно обозначив то, что связано с Вашей научной деятельностью. Но даже за этими краткими сведениями – большая жизнь…
— Родился в Москве и до переезда в Израиль жил и работал в Москве. Тружусь с семнадцати лет и всё время — в науке. Начинал как лаборант в НИИМосстрое, но уже через два-три года я стал ответственным исполнителем научно-исследовательских работ. Так что научно-исследовательской работой начал заниматься уже в девятнадцать лет, написал несколько книг и получил первый патент. К двадцати двум годам у меня уже было немало изобретений и публикаций. Мне пришлось закончить заочный институт, заочную аспирантуру, потому что «без бумажки ты – букашка».
Всю жизнь занимался композиционными материалами – это общее направление – Materials Engineering, в частности материалами защиты от коррозии и радиационными материалами, используемыми в атомной технике. Мои аспиранты тоже занимались материалами для атомной техники. Естественно, что у меня была высокая форма секретности, за границу меня долго не выпускали. Моя кандидатская диссертация «открытая», а вот уже докторская – «закрытая». Последняя моя должность в России – заместитель директора громадного института, в котором было двенадцать тысяч человек. А до этого работал в Государственном комитете по науке и технике. В Израиль совершил алию в 1991году.
— Естественно, без знания иврита. Сложно было?
— А зачем иврит? Достаточно знания английского. Это в Технионе, знаете ли, странные порядки. Согласно им, я, например, не имею права преподавать на английском, потому что я — из России. А вот если бы я приехал из Южной Африки или, не дай Бог, из Англии, я мог бы преподавать на английском – мне никто и слова не скажет.
— А почему такая установка касается только учёных из России?
— Чтобы не создавать конкуренцию. Сама по себе система Техниона – очень хорошая. Правда, она не для тех, кто приехал из России. Вот, например, один профессор открыл квазикристаллы, что отрицали его коллеги. Но так как ему была обеспечена академическая свобода (квиют), его не уволили. А через двадцать лет он стал Нобелевским лауреатом. Но самое интересное заключается в том, что если бы он был олим, то у него, скорее всего, такой возможности не было бы. Надо сказать, что в Израиле в этом отношении всё отлично налажено, но только не для репатриантов. А ещё многое зависит от того, какой ВУЗ вы закончили. Одна моя знакомая была заместителем начальника отдела технической информации Техниона. Она окончила два факультета Парижского университета Сорбонны, была магистром филологии и магистром астрономии. Её сразу взяли на работу заведующей Отделом информации — достаточно было того, что училась в Сорбонне.
— А что не сложилось у Вас в Технионе?
— В рамках Фонда Шапиро, мне предложили должность научного сотрудника, но я был вынужден отказаться, потому что у меня плохой опыт «мытья пробирок». Я ни с кем не боролся на этот счёт, просто не захотел работать в Технионе и создал несколько научно-исследовательских компаний. Столкнулся с тем, что зарплата руководителя-олима была в четыре раза меньше, чем его советников по инновациям. Мне пришлось встретиться с министром промышленности. И через три – четыре дня всё изменилось — люди стали получать нормальные деньги. Понимаете ли, израильтяне, которые в правительстве, не хотят иметь неприятности, поэтому с ними всегда можно решить вопрос. Чего не скажешь о тех, кто только мнит из себя высокое начальство.
Первыми избранниками-израильтянами в Европейскую академию наук – были я и министр науки Юваль Нейман, некогда бывший военным атташе в Англии. Но, видимо, скучно ему было на королевских балах, так он стал учиться в Кембридже. Окончил докторантуру.
Почти двадцать лет назад я открыл исследовательский центр «Polymate», который занимался технологиями композиционных материалов. Средства на его создание выделили американские инвесторы. Лаборатории размещались в Мигдаль-а-Эмек. Было сделано очень много интересных разработок. В начале прошлого года центр был продан американской компании.
— Была такая необходимость?
— Да, было несколько тому причин. Одна из них – я принял на работу прекрасного специалиста, который, как потом выяснилось, был в розыске Интерпола. Были и другие причины. К тому же мне уже немало лет и заниматься такой каждодневной работой мне нелегко.
— Не жалеете?
— Нет. Я заработал пенсию. Да у меня и помимо центра много работы. Очень люблю писать книги. У меня их порядка двадцати. Вот только за последние годы написал несколько многостраничных книг. Например, по продвинутым полимербетонам и компаундам. Она вышла в Америке, естественно, на английском языке. А в прошлом году – более чем пятисотстраничная книга «Зелёные нанотехнологии». Я имею пятьсот двадцать патентов. Но самое интересное то, что более трёхсот из них освоено в промышленности. За продажу патентов я, естественно получаю вознаграждение.
— Да, Ваша работа ценится по достоинству…
— Знаете, в Израиле бытует присказка, мол, если ты такой умный, то почему такой бедный? В Америке на это смотрят аналогично. Труд должен быть достойно оплачен. Если судить даже только по этому факту, то я вполне состоялся как учёный.
— Кроме того, Вы – редактор нескольких журналов: в Америке, в Швейцарии…
— Началось это лет шесть тому назад. Был у меня хороший знакомый – академик Юрий Сисакян, который руководил Объединённым институтом атомных исследований в городе Дубна. Как-то он пригласил меня выступить на конференции «Будущее России». Помню, на пленарном заседании выступал и епископ русской православной церкви. Самое интересное то, что этот епископ пророчил России большие успехи во всех областях науки, мол, потому что российская наука основана на православных традициях. И согласно этим традициям, люди работают исключительно ради чего-то божественного. Следующим выступающим был я, и, как истинный еврей, объяснил, что в науке самое главное – денежки, потому что приборы и материалы должны быть хорошими, и людям надо платить достойную зарплату. Так я развенчал его идеологию. Потом мы вместе пошли на банкет, и он, сидя за столом, поглаживая свой увесистый золотой крест, поучал меня, что, мол, чёрную икру надо есть ложкой и запивать только водкой, а не чем другим…
— А какой резонанс имело Ваше выступление на конференции?
— Очень многие стали обращаться ко мне с вопросом: «А что делать с наукой в России?» Я стал писать статьи о том, что же делать в этом плане. Хотя давал себе отчёт в том, что вряд ли этими статьями воспользуются в России. Тогда собрал их в одну книгу «Инновационные системы. Достижения и проблемы». В ней 546 страниц. В прошлом году книга издана в Германии на русском языке. Вот этого я до сих пор не могу понять: книгу о проблемах науки в России издают в Германии…
— Олег Львович, Вы сами предложили им издать книгу?
— Нет, конечно. Вообще-то, два – три раза в год я получаю просьбы издательств разных стран написать книги. Все заказы выполнять не успеваю, но одну книгу в год могу подготовить. Вот через две недели выйдет из печати ещё одна моя книга «Инновационные системы. Достижения и проблемы» как продолжение первой
. И тоже в Германии. А другие мои книги на английском языке, как правило, издаются в США, в международных издательствах. Одна из книг вышла в международной американской компании, но печаталась в Сингапуре. Вообще, хочу подчеркнуть, что наука — дело международное. Вот, например, сейчас я пишу вместе с мексиканскими авторами книгу, которая будет издана в Нидерландах. Участвую и в написании энциклопедии. Это считается престижным.
— Появятся ли эти книги в Израиле, в России?
— Израильские учёные могут свободно приобрести такие книги через Интернет. А вот в России вряд ли – они стоят дорого, а РАН уже давно не выделяет деньги на иностранные научные журналы.
— Хочу понять, о чём это говорит?
— Видимо, о том, что Академия наук РФ не выделит на это ни копейки – учёные не должны много знать, пусть знают только чиновники. Есть там у них такое СКОЛКОВО. Мне предложили прочитать там цикл лекций по инновационному инжинирингу. Это очень важная тема. Если следовать её направлениям, то мечту превратить в реальность очень даже возможно. Но далеко не всегда и не во всём на вооружение берётся инновационный инжиниринг. К примеру, если проектируется мост, то используются уравнения механики, которые были ещё в девятнадцатом столетии. Только раньше всё рассчитывали долго с помощью логарифмической линейки. А теперь заказываются программы ЭВМ конечных элементов и рассчитывается то же самое за минуты.
— А если всё-таки изобретено что-то новое?
— Например, в России лазер изобрели двое россиян и один гражданин США. Всем дали по Нобелевской премии. Своим в России подарили по шикарной даче в Барвихе, назначили академическую стипендию, выделили спецпитание. Американец же на премиальные деньги открыл несколько компаний по производству лазеров. И сегодня покупают лазеры в Соединённых Штатах Америки. Есть ещё одно очень крупное изобретение советского учёного Завойского – томограф по электронному паро-магнитному резонансу. Применяется он в диагностике для обследования различных органов. Так вот эти томографы производятся и в Америке, и в Израиле. В Израиле, например, очень много интересных компаний. Одна из них только что продана почти за десять миллиардов долларов. Эта компания находится в Йокнеаме и занимается производством машин по специальным чипам. То есть она делает первую машину, а всё остальные — уже в Азии. То есть, мозги — в Израиле, а исполнители – за его пределами. Наш министр финансов – очень разумный человек всё время требует, чтобы мы открыли свой рынок молочных продуктов из Дании или Финляндии, тогда никто не станет брать с нас дорого за творожок «котедж». Мы закрыли в Хайфе цементный завод с очень вредным производством, и правильно сделали. Лучше покупать цемент за границей, чем подвергать опасности здоровье наших людей. Вообще надо понять, что Израиль – это мозг и первые образцы. У нас есть очень много интересных разработок, но они не должны оставаться здесь. Скажем, как можно добывать воду из воздуха в пустыне? У нас пустынь мало, а в Африке или в Америке — в самый раз применить эту технологию. Израиль занимает первое место в мире по числу патентов на душу населения. В медицине у Израиля инноваций даже больше, чем в США.
— Как давно началась Ваша активная литературная деятельность?
— Спустя лет десять после приезда в Израиль. В Воронежском инженерно-строительном институте, ныне политехническом университете, у меня оставались хорошие друзья. Профессор там получал всего двести – триста долларов в месяц. Друзья спросили меня, что можно сделать, чтобы поднять зарплату? Я рассказал, какие можно проводить исследовательские, проектные работы. Советы мои были приняты, и сейчас университет имеет два филиала — в Хошимине и в Шанхае. И несколько лет назад этот университет был признан лучшим строительным университетом Европы. А самое главное – нам удалось получить деньги и создать там замечательный центр испытания строительных конструкций. В нём даже можно испытывать фрагменты зданий на сейсмическую стойкость. А это удовольствие – дорогое. Такого центра нет даже у нас в Технионе на строительном факультете. Естественно, мы имеем совместные патенты, публикуем статьи. Подобное сотрудничество у меня и в Казани. Только там — с авиационным институтом, где я научный руководитель центра нанотехнологий. Сейчас это технический университет. Интересный момент связан с ним. Тем, кто преподавал в этом учебном заведении до революции, поставили памятные доски. Так вот одна такая доска мне особенно запомнилась. Оказывается, одним из ведущих профессоров этого института был известный профессор Иван Шишкин. Он преподавал студентам черчение. А заодно… рисовал «Утро в сосновом лесу».
— Олег Львович, как Вы, будучи в звании профессора, почувствовали себя в Израиле? Насколько вообще востребованы оказались умы, приехавшие на Святую Землю?
— В Израиле я столкнулся с тем, что если ты не профессор в Технионе, то ты – «букашка». Мне это очень не понравилось, и я стал заведовать кафедрой «Зелёная химия» ЮНЕСКО. Там выполняли научно-исследовательские работы, получали интересные результаты. Мы, например, первые создали технологию резкого увеличения урожайности сельскохозяйственных культур.
— Каким образом пришли к этому?
—Рассмотрели оболочку семени, как наноструктуру. А если это наноструктура, то ею можно управлять. Технология эта была освоена в Албании. Вообще, Европа – производитель чистой продукции и там запрещено использовать генную инженерию. Наш же метод абсолютно экологически чистый. Большинство моих патентов – американские. Потому что самые крупные рынки — в Америке и в Европе. Есть патент в Японии. А в Израиле у меня их всего два.
— Не обидно?
— Нет, разумеется. Было бы неправильным отдавать патенты за небольшие деньги. В этом плане разумную экономическую политику ведёт наш премьер-министр Биби Нетаниягу. В результате за свои технологии Израиль получает от разных стран десять – пятнадцать миллиардов долларов ежегодно. А налоги идут в казну. И это ещё не всё. Так как в Израиле неплохо с еврейскими умами, то такие научно-исследовательские центры, как «Интел», «Майкрософт» и другие, находятся в нашей стране. И на зарубежные гранты работают в основном наши университеты. Что в этом плохого? А вот в России, например, взгляд на это несколько иной. Там стремятся изолироваться от мира, считают, что кругом враги. У нас тоже есть враги, но они не на столь высоком технологическом уровне, чтобы быть нам конкурентами.
— Да, не выгодно и не рационально развивать подобные крупные производства в нашей маленькой стране…
— Конечно. К тому же есть проблемы: сырьё нужно привезти, железной дороги, связывающей нас с Европой, нет… А страна у нас — интернациональная. Я, например, плодотворно работаю с университетами Польши. Есть там частная высшая школа экономики, в которой я и профессор, и эксперт по инновациям. Или взять такую отрасль, как сельское хозяйство. Да, мы преуспели в этом. Разработали и используем новые технологии. Но это совсем не значит, что мы должны быть только сельскохозяйственной страной. Мы успешно продаём свои новации, пропагандируем их во многих странах.
— А в каком возрасте у Вас появилось первое изобретение?
— Мне было тогда лет девятнадцать – двадцать, но моё изобретение нигде не применили. А вот когда у меня их было десять – пятнадцать, ко мне начали обращаться начальники цехов, главные инженеры небольших заводов. Они интересовались тем, что можно сделать нового на их предприятиях. После этого в Советском Союзе было внедрено порядка 300 моих изобретений. Вот только один пример. Считалось, да и сегодня там принято считать, что советская санитарная химия – самая передовая в мире. И вот в один прекрасный день сообщается, что в детских учреждениях нельзя использовать на прикладных занятиях существующий клей. К началу учебного года надо было разработать новую технологию, отчитаться за это перед партией и правительством. Мы вчетвером разработали её за три дня. Наш клей «бустилат» выпускали потом двадцать восемь предприятий страны.
Вообще, в России была странная ситуация. Приведу один пример. Чтобы сделать станины высокоточных станков, нужно было хорошо смешать дорогостоящую эпоксидную смолу с довольно большим количеством разных наполнителей. Я решил, что этот процесс надо смоделировать математически. Но я не математик. А в институте механики МГУ мне сказали, что задача эта не имеет математического решения. Но к тому времени уже появились ЭВМ, благодаря которым можно было попробовать решить задачу методом приближения к математическому варианту. Работа заняла недели три. Мы определили оптимальные параметры, проверили их на небольшом количестве образцов. Всё получилось. А дальше начинается интересное. Я прихожу к заведующему лабораторией и говорю: «Благодарен Вам за работу, уже написал статью об этом. Можно я включу Вас в соавторы?». А он мне: «Зачем? Просто напишите, что благодарите за помощь». Тогда все работали ради интереса, а не ради денег. Сейчас этот бывший заведующий лабораторией – академик, директор института проблем механики Академии наук.
— Благодаря своему таланту изобретателя Вы знакомились с интересными людьми, которые помогали расширению Вашей научной деятельности?
— Да, например, как я познакомился с академиком Юрием Сисакяном, о котором уже говорил? Нужно было изучить структуру композитов, а средств для этого у меня не было. Но существовала методика исследования позитронного рассеивания. Для этого нужно было иметь позитрон, то есть частицы, которые можно получить только в мощном реакторе. Я пришёл к Юрию Сисакяну. «Надо – так надо, — сказал он. — Поработаем недельку». Всё получилось, а мы стали друзьями. У меня был знакомый, директор Мытищинского комбината пластмасс Григорий Зохин, который создал несколько уникальных производств. Когда у него возникали какие-то вопросы, он обращался ко мне, и мы их решали только на уровне изобретений, а не каких-то договоров. Чтобы он мог за это нормально заплатить. Таких изобретений было пять или шесть… Я работал и с организациями военного назначения. В шестидесятые годы, в период химизации всей страны, читал лекции в рамках общества «Знание». Тогда за лекцию «Расширение области применения полимеров» мне платили двенадцать рублей и пятьдесят копеек. Это были хорошие деньги. Однажды меня пригласили в некое ведомство, а в какое – не сказали. За мной приехали на чёрном ЗИЛе со шторками на окнах. После лекции я узнал, что провёл её для коллегии министерства среднего машиностроения. Присутствовал на ней удивительный человек — министр Славский, который искренне считал, что министрам не нужны политзанятия, что нужнее приглашать таких людей, которые расскажут что-то полезное. После лекции он задавал мне вопросы и пригласил к сотрудничеству, которое оказалось весьма плодотворным. Как-то меня, тогда двадцатилетнего парня, вызвали в военкомат и сказали, что на меня пришла разнарядка для работы в системе КГБ. А по зрению я не был годен ни к какой военной службе. Так что порыв «друзей» министра «пристроить» меня в армии оказался напрасным.
— А есть ли сегодня на Вашем счету какие-то изобретения для военной промышленности?
— Мы изобрели специальную огнезащиту, которая будет работать в случае пожара пару часов. В Америке есть такие сигарообразные свинцовые контейнеры, внутри которых помещено спец-изделие. Но так как в США практически нет железных дорог, всё везут мощными автомобилями — траками, требующими большого расхода бензина. Перед нами стояла задача создать такое огнезащитное покрытие, которое обеспечивало бы защиту до двух часов. Такой материал мы разработали и его производство было налажено на одном из заводов в американском штате Висконсин. После выпуска первой опытной партии мне сказали: «Забудьте, где это делают и сколько». Потому что, если известно сколько этого защитного материала нужно, значит станет понятным, сколько в месяц производят этих изделий. Всё остальное достаточно открыто. Этот материал можем использовать в защите деревянных домов. Известно, что в Америке их много. Я работал с одной маленькой американской компанией, которая выпускает шестьдесят процентов реактивных двигателей мира. У неё в Америке есть заводы, есть исследовательский центр. Однажды я приехал на закрытую выставку. А потом должен был поехать в этот центр в другой конец страны. Мне предложили прислать по факсу копию странички паспорта, а к вечеру у меня на руках уже было разрешение ФБР на посещение закрытого объекта. Никто не спрашивал, чем занималась моя бабушка до восемнадцатого года, где и какие есть родственники… Вообще в Америке совсем другой подход к этому.
— А в России?
— В России я много лет продолжаю работать со специальными предприятиями. И для того, чтобы приехать туда, мне всё равно нужен новый допуск. Как ни странно, но и в Израиле остались ещё некоторые старые порядки, какие были и в Советском Союзе. А в Америке всё по-другому. Хорошо это или плохо, не могу сказать. Но факт – есть факт.
— Как-то в своём интервью Вы сказали, что экономика знаний более перспективна, чем сырьевая экономика…
— Так у Израиля другого выхода нет. Вот, например, сейчас в Хайфе на базе трёх детских садов проводятся, так называемые, уроки науки. На них детям прививают навыки, которые очень пригодятся им и в школе, и в высших учебных заведениях. Используются самые разные формы и методы. Приученные думать творчески, ребята, надо полагать, преуспеют в учёбе, а в дальнейшем смогут участвовать в интересных международных проектах, многие из которых проводятся в нашей стране.
— Вы утверждаете, что учиться нужно постоянно и желательно не тому, в чём ты уже впереди многих. Нужно изучать то, чего ты ещё не знаешь. Скажите, Олег Львович, чему Вы учитесь сегодня?
— Например, 3D-технологиям. Покажу Вам уникальное достижение китайской культуры. Вот смотрите, один шарик из яшмы вырезается в другом, другой – в следующем. И так далее. Это настоящее произведение искусства. Мастеру потребовался год, чтобы создать его. А вот другое изделие – пластмассовое. Снежинка в шарике сделана за две — три минуты. Эта технология и есть 3D-печать. Машинное производство всё смелее входит в нашу жизнь. И сейчас я в поиске финансирования для приобретения специального оборудования. Вообще, можно отпечатать всё: самолёт, дом… У меня уже есть несколько предложений из Европы, которые рассматриваю. Свободного времени не бывает. Например, через месяц отправляюсь в Ригу, где монтируется оборудование для производства композиционных материалов.
— Олег Львович, Вы можете ответить на вопрос, почему многие молодые люди, получившая высшее образование в Израиле, уезжают работать за границу?
— В Израиле «пробиться» очень сложно. Тем моим друзьям, которые здесь стали кем-то, удалось продвинуться только волею обстоятельств. Например, один мой знакомый, выпускник Рижского политехнического университета, защитил докторскую диссертацию, стал деканом факультета в Технионе. Приехал в Израиль сравнительно молодым человеком. Понял, что здесь ему не «пробиться» и очень вовремя уехал. В докторантуре Кембриджа работал под руководством самых выдающихся специалистов. Вернулся уже английским профессором, пять лет был ректором. Тенденция в нашей стране такова: если Вы просто приехали из России, Вас не возьмут. Потому что Вы не знаете иврита. К тому же, если вы учёный и не знаете английского, то дорога вам закрыта. Я, к примеру, и не пытался выучить иврит, в отличие от моей жены. Зато в совершенстве знаю английский. Это позволило мне состояться.
— Что для Вас, вообще, Израиль?
— Я считаю, что Израиль – моя страна. Я мог бы уехать в Америку, но был бы там одним из многих эмигрантов. И отношение к евреям в Америке тоже не самое оптимальное. У меня была знакомая, которую я считал своим другом. Это была такая Людмила Эйнштейн. Она – племянница жены Владимира Жаботинского. Окончила два факультета Сорбонны. До войны руководила нелегальной эмиграцией и вывезла из стран Европы несколько тысяч евреев. Во время войны преподавала иностранные языки и баллистику в Генштабе Советской Армии. От неё я получил достоверную информацию об Израиле и не питал излишних иллюзий…
— Все Ваши книги – научные. Не хотели бы написать роман, повесть? За плечами такая богатая событиями жизнь…
— Считаю, что быть средненьким литератором – это плохо. Правда, одну песню на мои юношеское стихи даже передавали на радио. Я писал и газетные статьи. Надо было деньги зарабатывать. Но к литературной деятельности не стремился. Преподавал химию в физико-математической школе для одарённых детей, которой руководил академик Израиль Гельфанд. Он считал, что математику капитально изучать надо в школе. В университете – поздно. Его как-то ребятишки спросили, мол, правда ли, что многие математики – шизофреники? Он ответил: «Конечно. Я и сам – шизофреник…»
— Поэтов, кстати порой тоже считают шизофрениками…
— Вообще-то, я бывал на семинарах у Бориса Пастернака. Он проводил их на своей даче в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов. Мне было тогда лет семнадцать. В жизни всё бывает случайно. Мой папа получил квартиру в доме для московской профессуры, что напротив кинотеатра «Прогресс». В нашем подъезде была детская библиотека профкома МГУ, куда «сплавляли» книги, подлежавшие уничтожению. Среди них было много разных книг, в том числе и об искусстве. И я увлекался чтением. Но не только… Родители мои болели туберкулёзом, и мне пришлось рано начать зарабатывать на жизнь.
— В каких случаях Вы ведёте диалог с самим собой?
— Ни в каких. Не люблю заниматься самоанализом. На это просто нет времени.
— Какими чертами своего характера Вы дорожите?
— Интересом ко всему новому.
— Каким Вы бы не хотели быть?
— Наверное, тем, кем я не стал. То есть — режиссёром, хотя занимался в любительской киностудии. Просто я понял, насколько это опасно. Потому что у меня были неподходящие взгляды для советского человека.
— У Владимира Высоцкого есть строка: «Я не люблю, когда…». Чего не любите Вы?
— Больше всего не люблю предательства. К сожалению, советский человек к этому склонен. Я когда уехал в Израиль, одна моя аспирантка, кстати, родом из подмосковной деревни, защитила замечательную диссертацию по атомной промышленности. Когда я уехал, она меня прокляла за то, что я предал Родину.
— Какую музыку Вы предпочитаете слушать?
— Я люблю оперу и балет. Больше всего люблю музыку Дебюсси, других французских композиторов.
— При Вашей занятости, удаётся находить время для чтения, активного отдыха, для театра, общения с друзьями?
— С друзьями – не очень. Считаю, что каждый человек – сам по себе. У меня — большая семья. Двое детей – здесь и дочь – в Канаде, шестеро внуков. Всегда торжественно отмечаем наши дни рождения. А в театры и кино я хожу достаточно часто. Иногда ездим в израильскую оперу, потому что в Хайфе нет оперного театра. Участвую также и в каких-то обязательных мероприятиях.
— Вы не считаете, что творческий человек – это «самосожжение»?
— Пока вот не сожжён… Наверное потому, что я – человек достаточно позитивный. Радуюсь жизни, и жизнь, естественно, этим же мне отвечает.
— Что может раздвинуть стены Вашей квартиры?
— Землетрясение. У нас есть такая радиостанция РЭКА. Она застаёт меня в самых разных местах и задаёт самые необычные вопросы. Однажды журналист нашёл меня в Ташкенте и спросил: «У нас тут взорвали гостиницу. Скажите, пожалуйста, в каком месте могли расположить заряды, чтобы взорвать здание?». Был ещё вопрос, связанный со взрывом: «А можно ли изготовить взрывчатку в домашних условиях?».
— О чём Вы сожалеете?
— Ни о чём. Я – состоявшийся человек. Мне семьдесят девять лет, и я ещё жив. Уже хорошо!
— Что для Вас Ваш возраст?
— Ничего плохого. Он меня вполне устраивает. Я с удовольствием играю в настольный теннис, гуляю по берегу моря. Здоровы все близкие мне люди — жена, дети, внуки.
— Вы счастливы. В чём секрет счастья?
— В общем, не знаю. А для меня счастье – так это делать то, что хочется.
— Спасибо, Олег Львович, за беседу.
— Пожалуйста.
Иллюстрация: автор интервью Лариса Мангупли