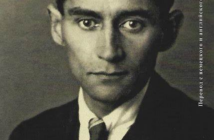Фото: madan.org.il
Автор: Борис Дубсон , Ph.D. in Economics
Аннотация:
«Как хорошо мы плохо жили» в застойные времена.
То, что позволено Юпитеру, то не дозволено быку, нельзя жить в обществе и быть от него свободным — сколько таких тривиальных истин мы усваиваем на своем жизненном пути.
Ключевые слова:
общество, застойный период
Annotation:
«How well we lived badly» in stagnant times.
What is allowed to Jupiter is not allowed to the bull, you cannot live in society and be free from it — how many such trivial truths we learn on our life path.
Keywords:
society, stagnation
«Как хорошо мы плохо жили» в застойные времена.
То, что позволено Юпитеру, то не дозволено быку, нельзя жить в обществе и быть от него свободным — сколько таких тривиальных истин мы усваиваем на своем жизненном пути. И все же у каждого есть степень относительной свободы, определяемая социальным статусом. В СССР в эпоху застоя, в достославные 70-е и 80-е годы прошлого века, вероятно среди законопослушных трудящихся наибольшей степенью относительной свободы наряду с писателями, художниками, музыкантами и представителями еще нескольких творческих профессий, обладали старшие научные сотрудники академических московских институтов в области гуманитарных наук. Разумеется, как справедливо отметила Фрумкина в своих воспоминаниях, при этом «степени свободы» отдельного ученого в каждом из них были достаточно разными, соответственно разными были и отношения с тем или с теми, кто в данном учреждении представлял «систему» с ее репрессивными функциями. Безусловным показателем было всеобщее резкое падение «градуса свободы» после 1968 года — но из этого не следует, что повсюду установилась одинаковая «температура».
В институте Рудика старшие научные сотрудники не ходили на работу каждый день и не просиживали на ней от звонка до звонка. Два – три так называемых присутственных дня, когда можно было придти в институт к началу заседания отдела, ученого совета или на другие мероприятия. Потрепаться после них с коллегами, выслушав и рассказав последние анекдоты. Заглянуть в библиотеку или в отдел Спецхрана и полистать там новую зарубежную периодику и закрытые бюллетени ТАСС. Сгонять, закрывшись в отделе на ключ, пару партий в блиц и с чувством исполненного долга покинуть институт до того, как основной поток трудящихся отправлялся домой после работы в переполненном в часы пик метро. Отметив в журнале отдела, какую библиотеку намерен посетить в библиотечный день, старший научный мог спокойно проваляться дома на диване – никто не стал бы его разыскивать в библиотеках, да и попробуй, найди человека в Ленинке. Иногда это благостное существование омрачали очередные кампании за укрепление дисциплины, сопровождавшиеся отменой библиотечных дней, требованиями являться на работу и уходить с нее «согласно распорядку трудового дня», собраниями коллектива, на повестке дня которых был все тот же вопрос о трудовой дисциплине. Однажды Марат Викторович Баглай, будущий председатель Конституционного суда РФ, а тогда заведующий отделом профсоюзного движения, на собрании отдела обратился с речью к его сотрудникам. «Товарищи! — сказал Баглай, я совершенно деградировал как заведующий отделом. Я прошу своих сотрудников ходить на работу. И не каждый день, А лишь по присутственным дням — два раза в неделю. И не все время. А лишь пока работает комиссия из райкома. Это всего три недели. И все-таки многие сотрудники не выполняют моего требования». В комнате на шикарном кресле развалился сотрудник отдела Трифонов. За ним еще в других институтах, в которых он ранее находился, прочно закрепилась репутация «сачка». Трифонов прервал Баглая замечанием: «Марат Викторович! Но ведь работа комиссии затянулась!»
Рудик даже предложил для укрепления дисциплины водрузить на институтских воротах плакат – «Позор запозданцам»! Директор юмора не оценил, но оргвыводов не последовало. Однако все эти кампании по «мобилизации» коллектива на трудовые подвиги быстро увядали. Все прекрасно понимали, что от институтских «сидельцев» толку все равно не будет — ни новый «Капитал», ни даже новую Программу КПСС они не напишут.
Тем не менее, научную продукцию все же надо было «выдавать на гора» — для старшего научного был даже определен минимум в размере шести печатных листов в год, причем оные листы должны были быть опубликованы в изданиях «высокой печати», а не в ротапринтных выпусках своего собственного или других институтов. Никто особенно не следил за выполнением этой нормы – не подсчитывал реальный объем указанных в годовых отчетах публикаций, не придирался к повторению одних и тех же тем, а то и самих текстов в различных изданиях. Еще выше оценивался «вклад» в науку в форме монографии. Сотрудник, сумевший «пробить» согласие дирекции на написание капитального труда, мог не волноваться за свою судьбу в течение нескольких лет – всегда можно было найти причины, объективно помешавшие завершить монографию в намеченные в плане сроки. После публикации книги она служила своего рода охранной грамотой, позволявшей еще пару-тройку лет игнорировать установленный минимум научного творчества.
Вместе с тем среди этой славной когорты ученых всегда можно было обнаружить немало нахалов, которые умудрялись откровенно манкировать даже столь необременительными обязанностями и при этом не только сохранять свое рабочее место, но и не получать служебных взысканий. Понятно, что к числу своеобразных «Юпитеров» институтского масштаба принадлежали прежде всего служители совершенно иных муз, для которых академический институт был всего лишь удобной крышей для прикрытия основной деятельности. Были среди них и своего рода «смотрящие», также трудившиеся по другому ведомству, но полем деятельности для них был сам институт. (Видимо, их было не меньше, чем в ИМЭМО, если в архивах Конторы, малая толика которых была опубликована в начале 90-х годов, сразу тремя информаторами был зафиксирован факт политического неблагополучия в секторе проблем идейной борьбы и критики немарксистских теорий ИМРД). В эту группу входили и бывшие труженики Конторы, отчисленные из нее или, может быть, покинувшие это могущественное учреждение по собственному желанию и все же сохранившие имидж причастности к ее деяниям, что позволяло им также изображать некую фронду по отношению к институтскому начальству. Среди последних Рудику особенно запомнились двое – Юлий Редько, удивительный «оптимист», который любой разговор завершал присказкой – «одно радует, немного осталось», и юрист Борис Жарков. Первый из них однажды огорошил Рудика вопросом – а ты знаешь, с какой фразы начинается большинство доносов? На недоуменное пожатие плечами с явным удовольствием сказал: «Спешу сообщить, что имярек…» Рудик вспомнил, как несколько лет назад он попал в общественную приемную Конторы. Это было через пару лет после окончания института. В метро он столкнулся со своей однокурсницей, которую не видел после окончания института. Вместе поднялись наверх, хотелось поговорить поподробнее — кто где, как сложилась судьба общих знакомых по группе и курсу. Было холодно и Регина предложила посидеть в общественной приемной Конторы, в которой, как оказалось, она работала экономистом в строительном управлении. Рудику было любопытно увидеть Контору изнутри и он согласился. Помещение было небольшое и сразу бросился в глаза «ящик для писем трудящихся» Рудика поразили его размеры — в высоту примерно полтора метра и достаточно широкий. Воображение разыгралось -сколько же писем выгребают из ящика каждый день. Занятый этими мыслями, Рудик невпопад отвечал на вопросы Регины, которая не понимала, что произошло. Посидев несколько минут, Рудик был рад очутиться снова на улице.
Жарков однажды в порыве откровенности рассказал, как в Конторе решается вопрос о разрешении на выезд заграницу. При поступлении запроса из любого учреждения сотрудник Конторы открывает папку с личными данными кандидата на поездку на международную конференцию, симпозиум и т. п. и смотрит, нет ли там листов с надписью «К/М» — компрометирующие материалы. Если он видит эту аббревиатуру, то он уже не вникает в суть компромата. Он закрывает папку и накладывает резолюцию: отказать. В том же документе из архива КГБ этот аспект деятельности конторы характеризует следующее сообщение: «Закончены подготовительные мероприятия по советской делегации на 13-й Международный конгресс политических наук (Париж, 1986, 16-20.VII). Приняты на связь и проинструктированы в контрразведывательном плане 11 агентов и 7 доверенных лиц. Те, в отношении которых имелись к/м, от поездки за границу заблаговременно отведены».
Однако остальные сотрудники не могли позволить себе роскошь откровенного игнорирования начальства – хочешь, не хочешь, а задания пана директора надо выполнять. Это было святое, а не какой-то полумифический минимум научной продукции. Самое пикантное в получении заданий состояло в том, что директор зачастую раздавал их при встрече с сотрудниками в институтском коридоре. И поэтому в момент, когда он появлялся в конце длинного коридора старого школьного здания постройки 30-х годов, предоставленного институту, на другом конце коридора творилось что-то невероятное: сотрудники проваливались сквозь землю, выпадали в окна или, как булгаковские герои, взлетали под потолок и исчезали. По третьему этажу, где находилась дирекция, без настоятельной надобности предпочитали не ходить. Особенно Рудику запомнился эпизод, когда после долгих колебаний Юра Емельянов, с которым они стояли в противоположном от дирекции конце коридора, все же решился направиться по нему мимо дирекции, и в этот момент из-за угла навстречу выкатился пан директор. Юра, по всей вероятности чисто рефлекторно, начал изображать что-то похожее на велосипедный сюрпляс – то есть, он поднимал ноги, но при этом оставался на месте. Директор с другого конца коридора с некоторым удивлением наблюдал за этими манипуляциями, а Рудик, давясь от распиравшего его смеха, бежал от греха подальше в противоположном направлении.
Но самое обидное было получить задание директора, пардон, в туалете. Поскольку в институте был только один мужской туалет, многие, чтобы избежать встречи с директором в этом месте отдохновения, предпочитали бегать в общественный туалет у Покровских ворот. Тем не менее, даже многочисленные предосторожности не помогали — в конце концов, если директору было нужно, он вызывал на ковер в свой кабинет. Задания всегда были сверхсрочные, на вопрос, когда надо принести выполненную работу, следовал ответ в духе доброй сталинской традиции – позавчера.
Самыми простыми из этих заданий были ответы на письма озабоченных трудящихся, направленные в ЦК партии, иногда на имя самого первого секретаря. По длинной цепочке из резолюций — «директору академического института имярек – подготовить ответ», затем резолюции директора – «завотделом имярек – написать ответ», затем зав. сектором имя рек и, наконец, письмо попадало к исполнителю. Хорошо, если он еще имел какую-то квалификацию по вопросу, затронутому в письме, но Рудику пришлось писать ответ на такое письмо, адресованное первому секретарю, еще будучи желторотым птенцом в должности научно-технического сотрудника. Если бы бедный отправитель этого письма знал, кто написал ответ на его письмо. Но для ответов на основную часть писем не требовалось особых усилий и квалификации, поскольку их авторы выдвигали заумные, вздорные или фантастические идеи, что-то наподобие вечных двигателей, но в области политэкономии, международных отношений и т. п.
Намного сложнее была подготовка справок для самого директора. Как это не удивительно, но с материалами для директора. Рудик мучился намного меньше, чем с собственными текстами – где-то в подсознании все время сидела мысль – не понравится, ну и хрен с тобой. И когда директор при чтении подготовленной справки, подчеркнув несколько мест, многозначительно говорил – вот это я прошу не использовать в своих работах — Рудик кивал головой, с облегчением понимая, что опять пронесло. Когда это произошло впервые, произошел курьезный случай. Рудик на радостях перепутал двери –вместо двери в кабинет он пытался открыть совершенно аналогичную соседнюю дверь в директорский шкаф под вопли директора – «Не туда, не туда». Чем громче кричал директор, тем ожесточеннее обезумевший Рудик рвал дверь, торопясь покинуть кабинет начальства. Наконец до него дошло, что выход рядом и он пулей вылетел в приемную. Пан директор еще раз убедился, что Рудик довольно странный тип, от которого можно ожидать чего угодно.
Бывали задания и деликатного свойства. Из них Рудику запомнилась подготовка статьи для академика А. М. Румянцева, точнее превращение откровенной белиберды в текст, который можно было напечатать в институтском журнале. Эта услуга дорогого стоила – предстояла проверка института комиссией, которую возглавлял Румянцев, и пану директору никак нельзя было отказать ему в публикации в институтском журнале. Все разрешилось к всеобщему удовольствию – Румянцев остался доволен статьей и распорядился перечислить гонорар за нее в Фонд мира, директору были гарантированы положительные итоги проверки, а Рудик получил премию в размере месячного оклада. Директор с присущим ему чувством юмора передал распоряжение своему заму, указывая пальцем на Рудика – «дать ему высшую меру, ха, ха, ха», то-есть премию, равную месячному окладу. После этого Рудик подумывал о том, не повесить ли на дверях Президиума Академии объявление – «пишу статьи для академиков, такса — 300 рублей».
Убедившись в способности Рудика выполнять даже столь необычные задания, пан директор однажды предложил ему написать целую работу – комментарии к труду одного из членов политбюро Французской компартии, которому не давали спать спокойно лавры К. Маркса, и он решил осчастливить человечество новым «Капиталом». Вполне возможно, что эта работа была достаточно серьезна, но Рудику совершенно не улыбалась перспектива потратить несколько месяцев на комментарии к чужому труду. Сам этот жанр ему претил, и он категорически отказался, хотя пан директор и его заместитель Б. Коваль сулили в случае успешного выполнения этого задания автоматическую защиту докторской диссертации. Лишь после того, как Рудик в отчаянии сказал, что он вообще не хочет защищать докторскую, директор и его зам посмотрели на него, как на придурка и от него отстали. Еще удивительнее было поручение директора написать за пару недель, немного – немало, проект экономической части новой программы КПСС. О необходимости разработки новой партийной программы заявил накануне Брежнев в отчетном докладе на съезде партии, и директор решил подсуетиться – «а у нас уже есть». Рудик пришел в ужас и уже всерьез подумывал, не перейти ли в другой институт, куда его вроде зазывали, но к разработке новой программы, как и ко многим другим собственным задумкам, к счастью для Рудика директор быстро потерял интерес.
В целом «барщина» — выполнение директорских заданий – занимала не более двух-трех месяцев в году. К этому добавлялось время на чтение и рецензирование работ коллег по отделу, которые ценили способность Рудика выявлять логические неувязки и прочие ляпы в своих опусах, что позволяло избежать неприятной критики при их дальнейшем прохождении. Из обязанностей оставались еще мучительные посиделки на заседаниях отдела и сектора, большую часть которых занимали монологи шефа — Юрия Алексеевича Васильчука, искренне считавшим себя первым экономистом среди философов и первым философом среди экономистов в стране. Экономико – философский поток сознания мог продолжаться часами. За это время Рудик успевал несколько раз проделать статическую гимнастику. Однажды он признался в этом С. Ершову, после чего последний время от времени прерывал очередной монолог начальства истерическими выкриками – Рудольф Борисович, прекратите! Рудик удивленно поднимал брови, а шеф недоуменно замолкал, не понимая, о чем идет речь, но затем вновь с воодушевлением продолжал знакомить коллег со своими идеями, которые, по его собственному признанию, смогут оценить лет через тридцать. Но не все были способны оценить гениальность начальства. Покойный Боря Маклярский засыпал и начинал похрапывать. Однажды от скуки Рудик решил подшутить над Маклярским, незаметно передвинув и спрятав его знаменитый портфель. Как-то он сказал Маклярскому, что вероятно в портфеле он держит все свои миллионы и как гражданин Корейко, сдает его в камеру хранения на московских вокзалах. Маклярский посмеялся, но портфель оставался под его неусыпным вниманием. Когда же Рудику удалось спрятать портфель, а проснувшийся Маклярский обнаружил его пропажу, он, не обращая никакого внимания на выступающего шефа, стал лихорадочно его искать, ползая под столами и хрипло бормоча, где портфель, куда ты его дел? Рудик даже пожалел, что сыграл такую злую шутку с коллегой, но вместе с тем понял, что в портфеле действительно есть что-то ценное.
Но не всегда заседания отдела ограничивались только монологами начальства, в дискуссию с которым вступать никто не рвался. Случались бои местного значения, превращавшиеся в яркие спектакли, достойные профессиональной сцены. Непременными участниками этих спектаклей были две колоритные фигуры: В. Г-ло, специалист по критике буржуазных теорий безработицы, защитивший по этой теме диссертацию и, вероятно, единственный современный представитель булгарского народа Ваисов -_Волжский. Г-ло все время пытался написать что-то эпохальное и поэтому в своих произведениях часто делился своими открытиями типа: «американские рабочие живут обычно семьями» или «у рабочих часто есть свой маленький домик». Про него рассказывали, что в своей главной работе он приписал одному американскому экономисту придуманные самим высказывания и затем страстно опровергал их. Разумеется, при этом он был уверен, что его американский коллега никогда не узнает об этом. Но каким-то образом американец ознакомился с трудом Г-ло. Более того, он был приглашен в СССР и решил лично ознакомиться со своим оппонентом при посещении института. Услышав об этом, Г-ло срочно укрылся в туалете и просидел там в кабинке до отъезда заокеанского гостя. Однако критиковать западных экономистов было проще, чем сражаться со своим вечным оппонентом в отделе Ваисовым – Волжским, всю жизнь боровшегося за право волжских татар называться булгарами и закалившимся в этой борьбе. Он отличался довольно склочным характером и почему-то особенно невзлюбил специалиста по теориям безработицы. На каждое новое произведение Г-ло Ваисов писал что-то вроде «Анти –Г-ло» и требовал обсуждения на заседании отдела. Для шефа, озабоченного только своими гениальными идеями, такие обсуждения превращались в серьезное испытание, а для остальных сотрудников в бесплатное театральное представление. Но самым выдающимся спектаклем стало обсуждение вопроса о выдвижении Г-ло на премию им. Ф.Дзержинского. В память пребывания Дзержинского в должности председателя ВСНХ была учреждена премия для экономистов. Г-ло узнал об этом первым и ворвался к шефу с требованием немедленно обсудить на заседании вопрос о выдвижении его на эту премию от отдела. Шеф, игравший с кем-то в блиц, был ошарашен напором Г-ло и не нашел причин для отказа. Собравшимся сотрудникам Ю.А. стал под подсказку Г-ло рассказывать о его научных достижениях. Упоминание каждой публикации сопровождалось документальным подтверждением – Г-ло, сидевший за шефом, как фокусник вынимал из портфеля книгу или журнал и, помахав ими в воздухе перед зачарованными сотрудниками, укладывал их кучкой на столе. В итоге кучка оказалась достаточно скромной, но сам способ демонстрации достижений оказался настолько впечатляющим, что сотрудники единогласно выдвинули Г-ло на премию. У Г-ло была еще одна важная функция в отделе: когда он начинал носить кальсоны, видневшиеся из-под брюк, всем становилось ясно, что наступила зима.
Из всех сотрудников отдела у Рудика наиболее приятельские отношения сложились с Сашей Козловским, но они не могли перерасти в дружбу. Саша, увы, был пьяницей и после принятия «на грудь» приличной дозы алкоголя с ним происходила удивительная метаморфоза: вместо интеллигентного, тактичного человека, обладающего талантом увидеть в пошлой действительности ее смешную сторону, появлялось чудовище, которое извергало из себя по телефону кучу гадостей, открывало лицо хама и тотального завистника. Много раз Рудик после этих телефонных монологов Козловского заявлял ему о полном разрыве отношений, но Саша, протрезвев, извинялся и каялся, и все повторялось после очередного пьяного загула, во время которого Козловский, сидя у себя в квартире, не мог удержаться от очередного обнажения темных сторон своей души. О хроническом пьянстве Козловского знали немногие, в институт он приходил трезвый, этакий лощеный джентльмен. Его даже выдвинули в депутаты районного совета от институтского коллектива. И он исправно ходил на сессии; при этом он, покидая отдел, всегда с большим достоинством говорил: «ухожу есть бутерброды с ценными породами рыб». В его манерах было что-то от английской знати времен Тюдоров, и Рудик даже собирался подарить Козловскому желтые подвязки, чтобы подчеркнуть это сходство. Но до этого Рудик успел уговорить Сашу написать вдвоем брошюру для издательства «Знание» о теории «общества массового потребления». Рудик надеялся, что Козловский, написавший диссертацию о потребительском кредите в США, сможет взять на себя подбор статистики и интересных фактов реальной американской жизни. Но Козловский, как и предыдущие и последующие соавторы, не оправдал надежд Рудика – почти все пришлось написать самому. Даже от хулиганского предложения Рудика взять псевдонимы – кандидаты экономических наук Р. Кисин и А.Осин – он отказался, испугавшись возможного скандала. Брошюра была издана, авторы получили неплохой по тем временам гонорар, примерно по 250 рубликов на нос, но особого следа в их жизни не оставила. Козловский умудрился почти пару десятков лет пролежать на диване, передвигая сроки сдачи запланированной монографии. Он признавался Рудику, что каждое утро он садится за письменный стол в костюме, в туфлях и при галстуке, и вдруг какая-то неведомая сила отрывает его от стула и бросает на диван. Кончилось это тем, что после завершения двух каденций в качестве депутата и еще нескольких лет безделья Сашу понизили в статусе – перевели из старших научных сотрудников в просто научные со снижением оклада. Но начинались уже другие времена, когда зарплата становилась символической, из института началось бегство, ушел и Козловский. Через несколько лет он умер от рака легких. Эта же участь постигла и Маклярского, который никогда не курил.
Но хватит о грустном. В те годы мы все еще были молодыми и каждый мог выбрать в рамках существовавших ограничений наиболее подходящий образ жизни. Сталь Ершов просиживал в институте почти каждый день с утра и до позднего вечера. После того, как его назначили зав. сектором, он чуть ли не ежегодно выпускал коллективные труды своих сотрудников. Рудик даже предложил Ершову повесить у себя в кабинете лозунг Ю. Олеши «ни дня без строчки», заменив строчку на монографию. Но научная плодовитость, также, как защита докторской, не помогла Ершову избавиться от «компромата» в его личном деле и стать «выездным». По его собственному признанию компромат сводился к тому, что он влюбился в англичанку из туристической группы, которую он сопровождал в качестве переводчика. Он только что закончил Иняз, был молодым и наивным, полагая, что ему позволят оформить брак в Москве и уехать с женой в Англию. Англичанка уехала, а компромат остался на всю последующую жизнь. И когда Ершову очередной раз отказали в поездке в Венгрию, Жарков доходчиво объяснил Ершову в присутствии Рудика причины «неувядаемости» компромата
Маклярский совмещал работу в институте с преподаванием политэкономии в школе-студии МХАТ. Поскольку он был женат на сестре известного артиста театра на Таганке Хмельницкого и, кроме того, жил в кооперативном доме киносценаристов, Борис был в курсе всех сплетен московского театрального, киношного и музыкального бомонда. Его отец, как рассказывал Борис, начинал службу в органах как «дегустатор еды, приготовленной для Сталина», затем дослужился до звания полковника и был заместителем начальника штаба партизанского движения. В книге Павла Судоплатова «Спецоперации», рассказывается о том, что после ареста Абакумова в 1951 г, арестовали и полковника в отставке Маклярского, ставшего к тому времени весьма известным кинодраматургом, специализировавшимся на сценариях из жизни разведчиков. Он был одним из сценаристов культового фильма «Подвиг разведчика», руководителем высших курсов киносценаристов. Сыну он оставил в наследство не только кооперативную квартиру (стоимость которой по нынешним временам составляет пару миллионов долларов), но и дачу в Быково и «Волгу». Не исключено, что в знаменитом портфеле Маклярского, о котором уже упоминалось, хранилась часть отцовского наследства. Но справедливости ради надо отметить, что Борис не паразитировал, транжиря отцовский капитал. Не имея особого интереса к исследованиям, он был хорошим организатором и редактором коллективных работ, преподавал, читал лекции от общества «Знание».(См. Примечания)
Поскольку речь уже зашла о кино, вспомнился и успех на этом поприще Юры Емельянова. Ему довелось сыграть роль переводчика Сталина в фильме Ю. Озерова «Освобождение». Из рассказов Юры о съемках Рудику запомнились два эпизода. Первый потрясает своей фантасмагоричностью. Во время перерыва в съемках артист Закариадзе, игравший Сталина, подошел к толпе зрителей из дома отдыха, размещавшегося во дворце, (где проходила ялтинская конференция), и спросил: «Вы любите меня?». В ответ раздались дружные крики: «Любим! Любим!» Барьер между «Сталиным» и зрителями был сломан. Они бросились к нему. Какая-то женщина стала рассказывать, что она подала заявление о вступлении в партию в марте 1953 г. Кто-то стал фотографировать «Сталина». Тогда многие постарались встать рядом с ним.
Появившийся откуда-то администратор крикнул в мегафон: «Освободить съемочную площадку!» В ответ какая-то женщина ответила: «Я из Сибири приехала. Что ж я не могу показать Ему, как живем мы, простые люди?!» Ясно, что Закариадзе в гриме и мундире маршала не был для нее «простым», а наверное был на самом деле «Сталиным».
Во втором случае в перерыве между съемками артист, игравший Молотова (известный по кабачку 13 стульев как пан Вотруба) рассказал, как после убийства Кирова Сталин приехал в Ленинград, где на перроне его встречало все руководство НКВД во главе с Медведем. Сталин ткнул Медведя пальцем в живот и произнес только одно слово – потолстел. Вскоре Медведь исчез. Когда съемки возобновились, Озеров сделал какие-то замечания Емельянову. Присутствовавший при этом Закариадзе подошел к Юре и, ткнув его пальцем в живот, сказал – потолстел. Вот такие страшноватые шутки. Но Юра любил юмор во всех его проявлениях. На обратной стороне фотографий со съемок, подаренных Рудику, можно обнаружить такие перлы: Ю. Емельянов: тов. Сталин, а Р. Б. брать будем? Тов. Сталин: пожалуй, надо подумать. Из рассказов Юры Рудику запомнился еще один о его работе переводчиком генсека компартии Цейлона на одном из съездов КПСС. Когда после пленарного заседания они отправились на обед, Юра спросил своего подопечного, что Вы будете пить, вино или пиво или водку? Генсек с достоинством ответил: вино и пиво и водку. Что делать, халява и на Цейлоне халява. В самом же институте общение Рудика с Емельяновым сводилось в основном к шуточному анализу текущей политической ситуации в стране на жаргоне западных советологов.
Ну а что же сам Рудик? Нет, он не лежал годами на диване, как Козловский, но и не строчил в год по монографии, как Ершов. За 25 лет работы в институте он написал три книги по трем совершенно разным темам, но эти темы он выбрал сам, поскольку они были интересны. Можно сказать, что Рудик был настоящим советским ученым, удовлетворявшим свою любознательность за счет государства. Однако государство не слишком баловало рядовых старших научных сотрудников. Рудику на всю жизнь запомнился один эпизод, происшедший еще в то время, когда он был младшим научным сотрудником в ИМЭМО с окладом в 105 руб. В общую компанию молодежи, игравшей после работы в настольный теннис, затесался Юра Ануфриев, который был на несколько лет старше. После защиты кандидатской диссертации он очень быстро получил должность старшего научного, так как у него уже вышла в свет монография. Когда он после долгого перерыва вновь пришел поиграть со своими младшими коллегами, все стали интересоваться, что изменилось в его жизни после увеличения зарплаты почти в три раза. Каково же было разочарование, когда Ануфриев, помявшись и подумав, сказал, что особых изменений не произошло, разве что к завтраку добавился стакан сметаны. Все долго смеялись, понимая, что Ануфриев несколько скромничает. Все же 300 рублей — оклад старшего научного сотрудника — был намного выше средней зарплаты в СССР и обеспечивал удовлетворение насущных потребностей. По международным меркам эта была бедность, но по советским стандартам старшего научного сотрудника можно было отнести к высшему среднему классу.. Впрочем, в стране с середины 50-х годов. вряд ли можно было вообще обнаружить голодающих, нищих, ходящих в рванье. И поэтому, когда слышишь, что некий репатриант, работавший инженером на авиазаводе в Ташкенте, жалуется израильтянам, что ему в СССР пришлось голодать всю жизнь, ничего кроме омерзения он вызвать не может. Даже во время войны паек авиаинженера позволял ему не голодать.
И тем не менее, ученые, если и не любят деньги, как Остап Бендер, но тоже страдают от их недостатка. У Рудика финансовый дефицит был перманентным с учетом того, что самостоятельная жизнь его семьи начиналась буквально с нуля. Переход в новый институт почти совпал по времени с переездом в новую однокомнатную квартиру, которую тесть получил для себя и тещи, но отправил на выселки в Химки-Ховрино дочку с зятем, оставшись в старой квартире рядом с Киевским вокзалом. Рудик был счастлив, но радость омрачало полное отсутствие мебели, (за исключением двуспального дивана и кроватки сына), а также прочих предметов длительного пользования – холодильника, телевизора, телефона и т. д. Так что исследование проблемы рынка товаров длительного пользования в Англии шло параллельно с решением актуальной проблемы обзаведения ими в Москве. Денег на их приобретение не было. Пришлось, скрепя сердце, обратиться к тете, земля ей пухом, но и она в это время переезжала на новую кооперативную квартиру и не имела свободных денег. В конечном счете единственным человеком, который дал Рудику взаймы 200 рублей на приобретение самого необходимого, оказалась Наташа, домработница тети. О приобретении мебельного гарнитура даже не приходилось мечтать, все покупалось, как теперь пишут в объявлениях, «по случаю». Так был приобретен по пути в институт в известном магазине кухонной мебели у Покровских Ворот кухонный стол производства ГДР. В магазине иногда «выбрасывали» в продажу отдельные предметы мебели, которые можно было приобрести без записи в очередь. Этот кухонный стол в семье Рудика не менее знаменит, чем шкаф из чеховского «Вишневого сада». Необыкновенно простой при сборке, с вечным пластиковым покрытием, он долгие годы заменял Рудику письменный стол в ночные часы, когда Рудик писал свою диссертацию а затем первую монографию. Впоследствии он «репатриировался» вместе с немногими другими вещами домашнего обихода в Израиль. После женитьбы сына стол перекочевал в его семью и до сих пор служит верой и правдой почти полвека. Окончательное обустройство кухни завершилось после того, как тесть, приехавший посмотреть на житье-бытье дочки, профинансировал приобретение стульев и кухонной тумбочки На приобретение всего остального — холодильника, телевизора, шкафа и так далее — оклада Рудика, увеличившегося после перехода в ИМРД с 135 до 150 рублей и 120 рублей зарплаты жены было явно недостаточно, нужен был дополнительный заработок. Кстати, хотя в ИМРД и платили больше, и заместитель директора Амбарцумов обещал Рудику при приеме на работу через три месяца увеличить зарплату до 180 рублей, этого так и не случилось. Только после защиты кандидатской диссертации Рудика перевели на стандартную ставку младшего научного сотрудника, кандидата наук с окладом в 175 рублей и еще через два года, в 1971 году, после публикации первой монографии Рудик добрался до своего потолка — должности старшего научного сотрудника. Вряд ли бы это произошло так быстро без активной поддержки Левы Виноградова, парторга отдела. Он буквально «продавил» в дирекции ее согласие на это решение. Еще до получения высшей должности рядового сотрудника в академической иерархии Рудику привалило огромное богатство: он получил гонорар за свою первую монографию, которая была неплановой работой, в издательстве «Международные отношения» -1350 рублей. На радостях он купил матери и отчиму часы, брату, вернувшемуся из армии, костюм и пальто, а себе радиоприемник «Спидола». После этого он мог писать в ночные часы на кухне под мелодии на программе «Маяк». Остальное очень быстро разошлось и финансовый дефицит после рождения дочки и вынужденного ухода с работы жены вновь вынуждал Рудика искать дополнительный приработок к зарплате. Основными источниками дополнительных доходов были лекции от общества «Знание» а также публикации в сборниках ИНИОН – института информации по общественным наукам. Публикации были двух видов: рефераты на книги, изданные заграницей, и обзоры, посвященные анализу зарубежной литературы на определенную тему. Последние представляли своего рода полуфабрикат научного исследования, которое можно было довести до уровня полноценной научной работы. Но Рудику было достаточно и того, чем он занимался у себя в институте. В целом в год в ИНИОНе удавалось заработать пару – тройку сотен рублей. Что касается лекций, то об этой части жизни Рудика стоит рассказать отдельно.
Иллюстрация: board.ria.pp.ua;
knigabook.com
beauty-zhivot.ru