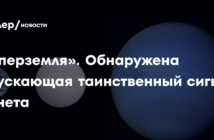Автор: Яна Любарская
Александр Городницкий: «Время было тяжелое,
голодное…»
По воспоминаниям А.М. Городницкого, до войны семья жила в
коммунальной квартире. Вместе с матерью наш герой пережил в Ленинграде
первую блокадную зиму. В апреле 1942 года маму и сына эвакуировали в Омск, где
глава семейства работал на военном предприятии. В 1945 году семья Александра
Моисеевича вернулась в Ленинград. Он поделился с нами своими стихами,
фотографиями и уникальными воспоминаниями о войне, о том страшном времени,
голоде и Блокаде, а также о нелёгкой жизни в эвакуации и антисемитизме тех лет.
***
Начало войны
Для меня война началась не 22 июня, а 1 мая 1941 года, на первомайской
демонстрации, на которые я любил ходить вместе с отцом. Колонна
Картографической фабрики ВМФ, двигавшаяся по улице Герцена, которой сейчас
вернули дореволюционное название Большая Морская, через Исаакиевскую
площадь, ненадолго остановилась у здания германского консульства, на котором
развевался огромный красный флаг с белым кругом и черной свастикой
посередине. Тогда мы еще дружили с третьим рейхом. Уже потом, в черную зиму
Блокады и в сибирской эвакуации, мне, как страшный сон, как кошмар, виделся
этот гитлеровский флаг, развевающийся над моим родным Ленинградом.
Я отчетливо помню ясный июньский день, когда отец приехал из города на дачу и
сказал, что началась война. В это трудно было поверить: вокруг стояла
невозмутимая летняя тишина и казалось, что ничего не изменилось. Однако
изменилось многое. Почти сразу после начала войны, в июле 41-го, моя мать
вместе с начальными классами своей школы выехала, забрав меня с собой, в
деревню под Валдай. В соответствии с планом эвакуации, составленным еще перед
Финской войной, в 39-м году, туда отправили несколько десятков тысяч
ленинградских детей. Как вскоре выяснилось, вывезли нас практически навстречу
немцам… Уже в первый месяц войны вермахт вплотную подошел к Валдаю, в то
время как Ленинград еще был относительным тылом. Вспоминаю, как громыхали
на западе орудийные залпы, горело небо, через деревню тянулись обозы с
беженцами и медсанбаты. Линия фронта стремительно приближалась. Многие
родители кинулись из Ленинграда за своими детьми, чтобы забрать их обратно. В
августе, одним из последних эшелонов, нас с матерью вывезли в Питер.
Помню бомбежку на станции Малая Вишера, когда мы прятались под вагонами, а
вокруг все было красиво освещено яркими ракетами. (Несколько лет назад в Нью-
Йорке я неожиданно встретил женщину примерно моего возраста, с которой, как
оказалось, мы тогда ехали в одном вагоне.) Так, с горем пополам, в конце августа
мы добрались до Ленинграда, а 8-го сентября немцы взяли Шлиссельбург и
замкнулось кольцо Блокады.
Осень 1941 года была сухой и погожей. Бомбежки становились все чаще, к ним
добавились артиллерийские обстрелы. Пайки урезались каждую неделю. К зиме
вырубили все деревья на бульваре. Исчезли с улиц и дворов голуби, кошки и
собаки. Располагавшийся неподалеку от нашего дома Андреевский рынок из
праздничной выставки пищевого изобилия превратился в мрачную пустыню. По
городу распространились упорные слухи, что детей воруют, убивают и продают
потом на рынках в качестве телятины. Поэтому мать категорически запретила мне
выходить на улицу. Отца ещё в августе отправили в Омск, куда была эвакуирована
картографическая фабрика для срочного выпуска военно-морских карт, и мы с
матерью остались вдвоем. Началась бесконечная, черная и голодная блокадная
зима.
Пожар в доме в Ленинграде
Дом наш загорелся в январе 42-го года не от бомбы и не от снаряда. В квартире
выше этажом умерла соседка и оставила непогашенной буржуйку, а гасить
понемногу разгоравшийся пожар было нечем — воду тогда приходилось таскать из
проруби на Неве. В апреле 42-го через ладожскую Дорогу жизни нас отправили в
эвакуацию в Омск, где уже работал отец. Машины шли ночью с погашенными
фарами, чтобы, не дай бог, не заметил враг.
Многие при этом гибли, проваливаясь под весенний лед. На восточном берегу
Ладоги нас пересадили в товарные вагоны. В Омске первый год отец почти все
время был на казарменном положении — надо было срочно пустить фабрику. Мать
сначала пошла работать вахтером (за это давали рабочую карточку), а к 44-му году
освоила специальность сначала корректора, а потом технического редактора в
Гидрографии, где и проработала до пенсии. После войны она около 25 лет
редактировала морские лоции, штурманские таблицы и наставления для
мореплавателей. Вспоминаю, что уже через десятки лет, во время долгих плаваний
на «Крузенштерне» и других гидрографических судах, открывая по ночам на вахте
в штурманской рубке увесистые тома морских лоций, в выходных данных я не без
гордости читал: «Технический редактор Р.М. Городницкая».
Эвакуация. Пребывание в Омске
В эвакуации в Омске я пошел в школу, сразу во второй класс. Время было
голодное. Немногие носильные вещи, захваченные из Ленинграда, довольно скоро
пришлось поменять на продукты. Спасала посаженная нами картошка, которая
заменяла все. Там, в эвакуации, класса с третьего я пристрастился к чтению. В доме
на Войсковой улице, где нас поселили, каким-то образом оказались подшивки
старых журналов «Вокруг света», которые я перечитывал по многу раз, наивно
мечтая о дальних путешествиях. Может быть, именно поэтому география стала
моим любимым предметом. Сюда же, в Омск, был эвакуирован из Москвы Театр
имени Евгения Вахтангова, так что первый мой выход в драматический театр
состоялся в Омске. Было это, кажется, уже в 43-м году. На сцене шел «Сирано де
Бержерак» в переводе Щепкиной-Куперник. Мне посчастливилось месяца за два до
этого прочесть однотомник Ростана, так что, всего «Сирано» я знал почти наизусть.
В конце первого акта, действие которого происходит в театре, король проходит со
свитой через сцену и спрашивает: «Что сегодня было на ужин?».
К всеобщей радости публики, актер, игравший короля, под сильным впечатлением
от собственного ужина, а возможно, и в мечтах о нем, неожиданно сказал: «Что
сегодня было на ужин? Биточки!». Однако основу культурной жизни в эвакуации
составляло кино. Его крутили в клубе гидрографии по два раза в неделю. И песни,
впервые прозвучавшие с экрана, надолго овладевали зрителями. Помню, как
поразил меня фильм «Большой вальс», как все мальчишки после фильма «Три
мушкетера» постоянно распевали на пыльных омских улицах бодрую песенку
д’Артаньяна: «Вар, вар, вар, вар, вара, я еду на коне», но более всего запомнился
мне Марк Бернес в фильме «Два бойца», с его знаменитой песней «Темная ночь».
Кинофильм этот был особенно близок мне еще и потому, что действие его
проходило в недоступном для меня тогда Ленинграде.
Вместе с тем, когда я думаю об истоках авторской песни в нашей стране, полагаю,
что ее зачинателями были не только Булат Окуджава и другие авторы начала 60-х.
Их предтечей в военные годы был и Марк Бернес с гитарой в руках, который, среди
грохота бомб и снарядов «ревущих сороковых», впервые открыл для нас
задушевную интонацию авторской песни. И если именно интонация, негромкий, но
проникающий в самое сердце голос — отличительная особенность этого жанра, то
Марка Бернеса можно с уверенностью причислить к одному из его основателей. И
это в те времена, когда гитара еще обличалась, как символ мещанства. Не случайно
песня «Темная ночь», сразу же выделившись на гремящем фоне грозных и бравых
военных песен, за несколько недель облетела всю страну, стала любимой на фронте
и в тылу, породила массу веселых и грустных пародий. Открыв для себя Бернеса
этой песней, я стал буквально отслеживать все его роли. Оказалось, что
удивительная и точная интонация его негромкого речитатива звучит во всех
песнях, которые он поет: и в кинофильме «Истребители» («В далекий край
товарищ улетает»), и даже в не слишком удачной песне о Ленинграде («Слушай,
Ленинград, / Я тебе спою / Задушевную песню мою»). Все песни он пел так, как
будто сам их написал. При этом задушевность исполнения совершенно не зависела
от сопровождающего инструмента: это могла быть гитара («Темная ночь»), рояль
(«В далекий край товарищ улетает») и даже гармошка («Тучи над городом
встали»).
«Омские мальчишки объяснили, что значит быть «жидёнком…»
В Омске я впервые понял, что песня может не только радовать, но и вызывать
чувство обиды и стыда. Еще в 42-м, в начале эвакуации, словоохотливые омские
мальчишки в нашем дворе, обозвав меня «жидёнком», популярно объяснили, что
это значит. Хорошо помню растерянные лица родителей, к которым я кинулся за
поддержкой. Помню, как долго плакал и ни за что не хотел быть евреем, хотел
быть, как все вокруг. Уже значительно позднее я узнал о нацистских песнях,
распевавшихся в гитлеровской Германии, и понял, какой страшной может быть
песня, призывающая к убийству и погромам.
Было трудно мне первое время
Пережить свой позор и испуг,
Став евреем среди неевреев,
Не таким, как другие вокруг,
Отлученным капризом природы
От ровесников шумной среды.
Помню, в Омске в военные годы
Воробьев называли «жиды».
Позабыты великие битвы,
Неприкаянных беженцев быт,
Ничего до сих пор не забыто
Из мальчишеских первых обид.
И когда вспоминаю со страхом
Невеселое это житье,
С бесприютною рыжею птахой
Я родство ощущаю свое,
Под чужую забившейся кровлю,
В ожидании новых угроз.
Не орел, что питается кровью,
Не владыка морей альбатрос,
Не павлин, что устал от ужимок,
И не филин, полуночный тать,
Не гусак, заплывающий жиром,
Потерявший способность летать.
Только он мне по-прежнему дорог,
Представитель пернатых жидов,
Что, чирикая, пляшет «семь сорок»
На асфальте чужих городов.
«Пытался найти наш омский дом…»
Работая над автобиографическим документальным фильмом «Атланты держат
небо…» (режиссер Наталья Касперович), я со съемочной группой побывал в Омске.
Надо сказать, что в огромном промышленном городе я не узнал города военных
лет, где прожил четыре года эвакуации. Пытался найти наш омский дом, но,
видимо, его уже не существует. А проблемы того времени сохранились до сих пор.
Из всех дней, проведенных в Омске, отчетливо всплывает в памяти самое
радостное событие — День Победы в 1945 году. Школы и госпитали работали.
Помню, когда я учился во втором и третьем классах, мы читали стихи раненым.
Время было очень тяжелое, голодное. Первые диктанты писались в самодельных
тетрадках из оберточной бумаги. Но борьба с общим врагом и наша общая Победа
над ним — объединяли людей.
Возвращение в Ленинград
В сентябре 45-го мы возвратились в родной Ленинград. Поскольку дом наш на
Васильевском сгорел, отцу выписали ордер на комнату, разрушенную попаданием
снаряда, в большом доме на углу Мойки и Фонарного переулка. На время ремонта
нас почти на три месяца приютила семья Карцевых, с которыми мои родители
познакомились в начале эвакуации, в товарном вагоне эшелона, идущего в Омск.
Глава семьи, Георгий Николаевич, был старым морским волком и еще до войны
много лет проработал в Главсевморпути. Только в конце ноября мы с родителями
наконец-то перебрались в собственную комнату в большой коммунальной квартире
на Мойке, 82, где я прожил более десяти лет. Война для меня закончилась. Но ее
отзвуки еще не раз возникали в моей жизни.
Мама
Моя мать, Рахиль Моисеевна Городницкая, умерла в ноябре 1981 года от
очередного инфаркта. Сама она за всю свою жизнь, кроме повседневной работы и
забот по дому, ничего не видела и, конечно, за границей не бывала, по морям не
плавала. Последние годы мать мучили постоянные страхи за меня и за отца,
превращавшиеся в нервную болезнь. Она боялась взять телефонную трубку,
открыть дверь на внезапный ночной звонок. Когда я задерживался вечером в
городе, могла часами стоять у окна, с тревогой вглядываясь в темноту. При этом к
моим многомесячным экспедициям в Арктику и дальние моря она относилась
спокойно, даже зная о риске во время погружений на подводных аппаратах. Все это
происходило, как бы вне ее реальной жизни и не вызывало такого беспокойства,
как мои вечерние опоздания.
Июль 1945, Лагерь под Омском "Чернолучье"
Все невзгоды нашей семьи ложились на хрупкие мамины плечи. Ее любили,
кажется, все вокруг — и домочадцы, и соседи. Каждого вошедшего в дом она
старалась прежде всего накормить, хорошо помня черные военные годы. Более
всего боялась обременить кого-нибудь собой, причинить неудобство. Терпеть не
могла долгов и внушила эту нетерпимость мне. В доме, несмотря на нужду, всегда
поддерживала медицинскую чистоту. Она и умерла от того, что, почувствовав себя
плохо и уже вызвав врача, вдруг решила вытереть пол, показавшийся ей
недостаточно чистым. Ее внезапная смерть, по существу, сломала отца.
Папа
Отец, Моисей Афроимович Городницкий, после ухода мамы потерял интерес к
жизни, хотя был человеком любознательным и общительным. В январе 1985 года у
него обнаружили рак легких, к сожалению, неоперабельный. Летом того же года
мы с женой не без труда уговорили его переехать к нам в Москву (он долго
сопротивлялся этому переезду, не желая уезжать от могилы матери). Скрывая от
него смертельный диагноз и стараясь отвлечь от размышлений о болезни, я
предложил ему написать воспоминания о его детстве и юности. Будучи человеком,
приученным к порядку и каждодневному труду, он завел конторскую книгу и начал
аккуратно записывать туда свои воспоминания. Работал он, к несчастью, недолго. 6
мая 1986 года он умер на моих руках, от горлового кровотечения.
Отца никак не вспомню молодым:
Все седина, да лысина, да кашель.
Завидую родителям моим,
Ни почестей, ни денег не снискавшим.
Завидую, со временем ценя
В наследство мне доставшиеся гены,
Их жизни, недоступной для меня,
Где не было обмана и измены.
Безропотной покорности судьбе,
Пренебреженью к холоду и боли,
Умению быть равными себе
И презирать торгашество любое.
Они, весь век горбатя на страну,
Не нажили квартиру или виллу,
Деля при жизни комнатку одну,
А после смерти — тесную могилу.
Чем мы живем сегодня и горим?
Что в полумраке будущего ищем?
Завидую родителям моим,
Наивным, обездоленным и нищим.
Воспоминания о родителях
Когда я думаю о счастливых семейных парах, в наше время достаточно редких и
нетипичных, то всегда вспоминаю своих родителей. Сейчас они лежат рядом под
одним надгробным камнем на Казанском кладбище в Царском Селе, и я рано или
поздно думаю к ним присоединиться. Каждый раз по приезде в Питер, навещая их
могилу, расположенную в конце еврейского участка, прохожу мимо древнего
покосившегося и заросшего мхом могильного камня с изображением могендовида
и надписями золочеными буквами по-русски и на иврите. Здесь похоронен в 1896
году лейб-гвардии фельдфебель Шимон Черкасский, видимо, выходец из
кантонистов, отдавший жизнь за обретенную им негостеприимную родину.
Заброшенная эта могила поневоле заставляет задуматься о собственной судьбе.
День сегодняшний
Однажды, питерский телеканал «100 ТВ» выпустил документальный сериал «Дети
блокады», об известных жителях Петербурга, переживших ее, в число которых
попал и я. Съемочная группа сначала снимала меня на 7-й линии, у ворот моего
cтарого дома, а потом — в Музее истории Санкт-Петербурга на Английской
набережной Невы, где есть большой отдел, посвященный блокаде. Меня привели в
маленькую комнатушку, имитирующую жилье блокадной поры: буржуйка, окна,
заклеенные крест-накрест бумажными полосками, черная тарелка репродуктора на
стенке — и усадили на узкую койку. «Подождите пару минут, — сказали
операторы, — мы сейчас принесем камеру и будем вас снимать».
С этими словами они вышли. Через две минуты в уши мне неожиданно ударил вой
сирены, из включившегося репродуктора хорошо знакомый, как бы возникший из
подкорки моей памяти, голос закричал: «Воздушная тревога! Воздушная тревога!»
Сердце мое бешено заколотилось. Я съежился, обхватив голову руками. На глазах
выступили слезы. Оказывается, все это время операторы снимали меня скрытой
камерой, а потом вставили это в фильм. Ну и методы! Почти как у Анджея Вайды,
в картине «Все на продажу»! Через пару дней после показа этого фильма по
телевидению, мне позвонила моя давняя приятельница, литературный критик
Ирина Муравьева: «Я хотела поговорить с тобой о блокаде, но видела по
телевизору фильм и не буду тебя тревожить».
Текст к публикации подготовила Яна Любарская.
Иллюстрация: Российская государственная библиотека
https://stmegi.com/posts/117711/aleksandr-gorodnitskiy-vremya-bylo-tyazheloe-golodnoe-/
*****************************************************************************************************************************
АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ. ЕВРЕЙСКИЕ СТИХИ
Меня зовут Александр Городницкий, мне – 75.
Родители мои родились в Белоруссии, в
Могилеве, откуда в начале 1920-х годов уехали
учиться в Ленинград. Сам я родился в
Ленинграде, пережил блокаду. Окончив
Ленинградский горный институт и, получив
диплом геофизика, всю жизнь работал в
экспедициях: 17 лет – на Крайнем Севере и
более 30 лет – на научных судах в разных
районах Мирового океана. Побывал на Северном
Полюсе и в Антарктиде, неоднократно
погружался на океанское дно в подводных
обитаемых аппаратах, исколесил практически
всю планету. И только сейчас, на склоне лет, я
неожиданно спохватился, что почти ничего не
знаю о своих предках, о языке идише, на
котором они говорили…
Перед войной мы с родителями каждый год
ездили летом к бабушкам и дедушкам в родной
Могилев. Весной 1941 года отцу вовремя
не выдали зарплату и от поездки на родину
пришлось отказаться. Это нас спасло, поскольку
осенью того же года немцы уничтожили там всех
наших многочисленных родственников…
Фотографии бабушек и дедушек не
сохранились. Все фото сгорели в октябре 1942
года, в блокаду, вместе с нашим домом. Память
о бабушках связана со вкусом малинового
варенья и лежащими на чердаке антоновскими
яблоками. А еще бабушка была большой
мастерицей по части гефилте фиш…
Мой сын Володя в 1987 году уехал из
Ленинграда жить в Израиль. Стал религиозным
человеком, теперь он Зеев. У меня три внучки –
Рахиль, Двора и старшая – Бася. Недавно она
вышла замуж за Ушера, выходца
из хасидской семьи (в январе этого года Двора
тоже вышла замуж за хасида). Ни в той, ни в
другой семье не знают русского языка.
УУшера пятнадцать братьев и сестер –
многочисленная родня, все они говорят на
идише, как это полагается у хасидов. Вот так
идиш снова возвращается в мою семью. Круг
замыкают мои внуки…
Эти слова прозвучали в документальном
фильме «В поисках идиша», который сняли
АлександрГородницкий, Наталья
Касперович, Юрий Хащеватский, Семен
Фридлянд. Съемочная группа объездила
многие города и местечки Беларуси,
побывала в Израиле.
Александр Городницкий встречался с
самыми разными людьми, беседовал с
ними о судьбе белорусских евреев, о
судьбе языка идиша и рассказывал о себе,
о своей семье.
В фильме звучат стихи и песни,
написанные Александром Городницким.
***
Рахиль
Подпирая щеку рукой,
От житейских устав невзгод,
Я на снимок гляжу с тоской,
А на снимке двадцатый год.
Над местечком клубится пыль,
Облетает вишнёвый цвет.
Мою маму зовут Рахиль,
Моей маме двенадцать лет.
Под зелёным ковром травы
Моя мама теперь лежит.
Ей защитой не стал, увы,
Ненадёжный Давидов щит.
И кого из моих родных
Ненароком ни назову,
Кто стареет в краях иных,
Кто убитый лежит во рву.
Завершая урочный бег,
Солнце плавится за горой.
Двадцать первый тревожный век
Завершает свой год второй.
Выгорает седой ковыль,
Старый город во мглу одет.
Мою внучку зовут Рахиль,
Моей внучке двенадцать лет.
Пусть поёт ей весенний хор,
Пусть минует её слеза.
И глядят на меня в упор
Юной мамы моей глаза.
Отпусти нам, Господь, грехи,
И детей упаси от бед.
Мою внучку зовут Рахиль,
Моей внучке двенадцать лет.
***
Евреи
И становится страх постоянным сожителем нашим,
С нами ест он и пьёт и листает страницы газет.
Не спешите помочь нам — наш путь неизбежен и
страшен:
Вы спасётесь когда-нибудь — нам же спасения нет.
Меж народов иных пребываем мы все должниками.
Не для нас это солнце и неба зелёная твердь.
Наши деды дышали озонами газовых камер,
И такая же внукам моим уготована смерть.
Не бывать с человечеством в длительной мирной
связи нам:
Нам висеть на крестах и гореть на высоких кострах,
Густо политых кровью и пахнущих едко бензином,
И соседям внушать неприязнь и мистический страх.
Вновь настала пора собирать нам в дорогу пожитки.
Время пряхой суровой сучит напряжённую нить.
Истекают часы, и наивны смешные попытки
Избежать этой участи, жребий свой перехитрить.
***
Воробей
Было трудно мне первое время
Пережить свой позор и испуг,
Став евреем среди неевреев,
Не таким, как другие вокруг,
Отлучённым капризом природы
От ровесников шумной среды.
Помню, в Омске в военные годы
Воробьёв называли "жиды".
Позабыты великие битвы,
Голодающих беженцев быт, —
Ничего до сих пор не забыто
Из мальчишеских первых обид.
И когда вспоминаю со страхом
Невесёлое это житьё,
С бесприютною рыжею птахой
Я родство ощущаю своё,
Под чужую забившейся кровлю,
В ожидании новых угроз.
Не орёл, что питается кровью,
Не владыка морей альбатрос,
Не павлин, что устал от ужимок
И не филин, полуночный тать,
Не гусак, заплывающий жиром,
Потерявший способность летать.
Только он мне единственный дорог,
Представитель пернатых жидов,
Что, чирикая, пляшет "семь сорок"
На асфальте чужих городов.
***
Фрейлехс
У евреев сегодня праздник.
Мы пришли к синагоге с Колькой.
Нешто мало их били разве,
А гляди-ка — осталось сколько!
Русской водкой жиды согрелись,
И, пихая друг друга боком,
Заплясали евреи фрейлехс
Под косые взгляды из окон.
Ты проверь, старшина, наряды,
Если что — поднимай тревогу.
И чему они, гады, рады? —
Всех ведь выведем понемногу.
Видно, мало костям их прелось
По сырым и далеким ямам.
Пусть покуда попляшут фрейлехс —
Им плясать еще, окаянным!
Выгибая худые выи,
В середине московских сует,
Поразвесив носы кривые,
Молодые жиды танцуют.
Им встречать по баракам зрелость
Да по кладбищам — новоселье,
А евреи танцуют фрейлехс,
Что по-русски значит — веселье.
***
После дождика небо светлеет.
Над ветвями кричит воронье.
Здесь лежит моя бабушка Лея
И убитые сестры ее.
Представительниц славного рода,
Что не встанет уже никогда,
В октябре сорок первого года
Их прикладами гнали сюда.
Если здесь бы мы с папой и мамой
Оказались, себе на беду,
Мы бы тоже легли в эту яму
В том запекшемся кровью году.
Нас спасла не Всевышняя сила,
Ограничив смертельный улов, –
Просто денег у нас не хватило
Для поездки в родной Могилев.
Понапрасну кукушка на ветке
Мои годы считает вдали.
В эту яму ушли мои предки
И с собой мою жизнь унесли.
Разделить свое горе мне не с кем, –
Обезлюдел отеческий край.
Этот город не станет еврейским:
Юденфрай, юденфрай, юденфрай.
Будет долгой зима по приметам.
Шлях пустынный пылит в стороне.
Я последний, кто помнит об этом,
В этой Б-гом забытой стране,
Где природа добрее, чем люди,
И шумит, заглушая слова,
В ветровом нескончаемом гуде
На окрестных березах листва.
* * *
Жизнь как лето коротка,
Видишь?
Я не знаю языка
Идиш,
Достоянья моего
Предка,
Да и слышал я его
Редко.
Не учил его азы, –
Грустно.
Мой единственный язык –
Русский,
Но, состарившись, я как
Скрою
Разобщенье языка
С кровью?
Мой отец перед войной
С мамой
Говорил на нем порой,
Мало,
Чтобы я их разговор
Не понял.
Это все я до сих пор
Помню.
Я не знаю языка,
Значит,
Не на нем моя строка
Плачет.
Не на нем моя звенит
Песня,
И какой же я а ид,
Если
Позабыл я своего
Деда,
Словно нет мне до него
Дела?
Вдаль уносится река,
Жарко.
Я не знаю языка –
Жалко.
***
Год за годом
Все дороже мне
Этот город, что сердцу мил.
Я последний еврей в Воложине
И меня зовут Самуил.
Я последний еврей в Воложине
И меня зовут Самуил.
Всю войну прошел, как положено,
Ордена свои заслужил.
Босоногое детство ожило
И проносится надо мной,
Было семь синагог в Воложине
В 41-ом перед войной.
Понапрасну со мною спорите,
Мол, не так уж страшна беда.
От поющих на идише в городе
Не осталось теперь следа.
До сих пор отыскать не можем мы
Неопознанных их могил.
Я последний еврей в Воложине
И меня зовут Самуил.
Одиноким остался нынче я
И от братьев своих отвык.
Я родные забыл обычаи,
Я родной позабыл язык.
Над холмами и перелесками
К югу тянутся журавли.
Навсегда имена еврейские
С белорусской ушли земли.
Я последний еврей в Воложине,
Мне девятый десяток лет,
Не сегодня, так завтра тоже я
Убиенным уйду во след.
Помоги, Всемогущий Боже, мне,
Не хватает для жизни сил.
Я последний еврей в Воложине,
И меня зовут Самуил.
***
Остров Израиль
Эта трещина тянется мимо вершины Хермона,
Через воды Кинерета, вдоль Иордана-реки,
Где в невидимых недрах расплавы теснятся и стонут,
Рассекая насквозь неуклюжие материки.
Через Негев безводный, к расселине Красного моря,
Мимо пыльных руин, под которыми спят праотцы,
Через Мёртвое море, где дремлют Содом и Гоморра,
Словно в банке стеклянной засоленные огурцы.
Там лиловые скалы цепляются зубчатым краем,
Между древних гробниц проводя ножевую черту.
В Мировой океан отправляется остров Израиль,
Покидая навек Аравийскую микроплиту.
От пустынь азиатских — к туманам желанной Европы,
От судьбы своей горькой — к неведомой жизни иной,
Устремляется он. Бедуинов песчаные тропы
Оборвутся внезапно над тёмной крутою волной.
Капитан Моисей уведёт свой народ, неприкаян,
По поверхности зыбкой, от белых барашков седой.
Через этот пролив не достанет булыжником Каин,
Фараоново войско не справится с этой водой.
Городам беззаботным грозить перестанет осада,
И над пеной прибоя, воюя с окрестною тьмой,
Загорится маяк на скале неприступной Масады,
В океане времен созывая плывущих домой.
***
Иерусалим
Этот город, который известен из книг
Что велением Божьим когда-то возник
Над пустыни морщинистой кожей,
От момента творения бывший всегда
На другие совсем не похож города, —
И они на него не похожи.
Этот город, стоящий две тысячи лет
У подножия храма, которого нет,
Над могилою этого храма,
Уничтожен, и проклят, и снова воспет,
Переживший и Ветхий и Новый завет,
И отстраиваемый упрямо.
Достоянье любого, и всё же ничей,
Он сияет в скрещенье закатных лучей
Белизною библейской нетленной,
Трёх религий великих начало и цель
Воплотивший сегодняшнюю модель
Расширяющейся вселенной.
Над Голгофой — крестов золоченая медь,
На которую больно при солнце смотреть,
А за ними встаёт из тумана
Над разрушенным Котелем — скорбной стеной,
Призывая молящихся к вере иной,
Золотая гробница Омара.
Этот порт у границы небесных морей
Не поделят вовек ни араб, ни еврей
Меж собою и христианином.
И вникая в молитв непонятный язык,
Понимаешь — Господь всемогущ и велик
В многоличье своём триедином.
1991
Источник:
https://a.kras.cc/2015/04/blog-post_127.html?m=1