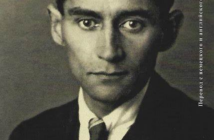Фото: Сергей Штильман
Памяти бабушки Доры
ДЕСЯТЬ БУКВ НА СТЕЛЕ
О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной…
К.Н. Батюшков.
Когда я размышляю о том, как нам удалось победить в Великой Отечественной войне, в той страшной бойне, я почему-то едва ли не в первую очередь думаю не о Сталинградской или Курской битвах, не о сражениях под Москвой или подо Ржевом, а о моей бабушке Доре, которая вряд ли когда-нибудь в жизни держала в руках оружие.
* * *
Моя бабушка – Дора Борисовна Штильман (в девичестве Полевская) – сколько я её помню – очень боялась войны. Она пережила первые жуткие военные месяцы, ночные бомбёжки и ночи в бомбоубежище, страшную панику в Москве 16 октября 1941 года, когда многим казалось, что падение столицы – вопрос дней и даже часов. Бабушка не хотела уезжать из Москвы, эвакуировалась буквально в последний момент: её убедили в том, что вот-вот придут фашисты и всех убьют. В первую очередь – евреев. И она испугалась: за своих детей. Пережила она и несколько лет эвакуации в Петропавловске, что в Северном Казахстане. Во время эвакуации чудом спасла от смерти моего двенадцатилетнего отца, заболевшего брюшным тифом. А потом было долгое и трудное возвращение в Москву (выехать из Москвы в эвакуацию оказалось куда проще, чем вернуться обратно), послевоенная разруха и голод.
Вот одно из моих ранних детских воспоминаний. Мне пять лет. Мы стоим с бабушкой на улице около продуктового магазина в Кожевниках в огромной очереди за рисом, мылом и спичками осенью 1962 года, в самый разгар Карибского кризиса. В очереди только и разговоров, что про войну.
Бабушку здесь все знают: она живёт совсем рядом, в пяти минутах ходьбы отсюда, в двухэтажном деревянном доме на Шлюзовой набережной, а работает официанткой в столовой, до которой от этого магазина метров сто. От столовой буквально рукой подать до Павелецкого рынка и вокзала.
После того как наконец-то подходит очередь, мы кладём в авоськи все наши запасы на случай войны и начинаем движение к её дому. Я несу авоську со спичками. Бабушка – всё остальное. Она то и дело останавливается, чтобы поговорить с кем-то из своих знакомых. Говорит с ними подолгу, а я тяну её за руку и хнычу: «Бабушка, ну пойдём!» Бабушка, кое-как свернув разговор, прощается, и мы идём дальше, но через несколько шагов она снова останавливается, чтобы обсудить вопросы войны и мира с очередной своей знакомой, соседкой или приятельницей. А я продолжаю дёргать бабушку за руку и канючить. И так по пути к её дому происходит раз шесть-семь.
От Шлюзовой набережной до её дома нужно идти мимо длинного каменного забора. Забор этот кажется мне бесконечным. В бабушкином дворе, в конуре, живёт собака Нелька – маленькая, очень злобная. Она сидит на цепи, всё время трясётся от ярости и хрипит-захлёбывается лаем.
Я, маленький, больше всего боялся именно её: она как-то раз сорвалась с цепи и укусила меня. Это был самый настоящий детский ужас – лающая из будки Нелька. Страшнее её был только Бармалей из сказки Чуковского.
Если подняться по деревянной лестнице и толкнуть дверь, справа будет комната бабушки Доры, а слева – кухня. Там около плиты обычно отирается огромный чёрный кот Матрос. Я его не боюсь и иногда пытаюсь погладить. Матрос – кот бабушкиной соседки Васёны – крикливой, весёлой, огромной старухи. В мае Васёна зарабатывает на жизнь тем, что собирает в подмосковных лесах ландыши и продаёт их у метро «Павелецкая». Букеты ландышей стоят на кухне в огромном жестяном корыте. Запах от них очень резкий, но приятный. Куда приятнее, чем в парикмахерской.
Я до сих пор помню, как бабушкина соседка укутывала бубенчики ландышей их же блестящими, словно атласными, листьями и перевязывала суровой ниткой, которую перекусывала зубами.
* * *
А еще бабушка Дора очень боялась, что я свяжусь с плохой компанией и стану хулиганом. Оснований для этого у неё было предостаточно. Из нашего двора на Татарской улице, из одного из самых бандитских районов – Замоскворечья (помните фильм «Прощай, шпана замоскворецкая»?), – вышло немало людей, которые почти всю свою сознательную жизнь провели в местах не столь отдалённых.
Как-то, когда мне было тринадцать лет, в разгар жуткого приступа псориаза, который накрыл меня с головы до ног, родители отправили меня с бабушкой на юг – в Сочи. Там я быстро скорешковался с двумя великовозрастными обалдуями, горькими пьяницами – Славочкой и Петечкой. Обоим было под сорок. Мы проводили время самым что ни на есть высокоинтеллектуальным образом: часами сидели под навесом около моря и резались в карты.
Именно Петечка и Славочка научили меня этой премудрости – играть в дурака в разных его модификациях: в «польского», «подкидного», «переводного», «верю-не-верю». «двухкозырного», «королевского», «с джокером», «погонного» (с погонами и кокардой), – а также в «буру», «сику», «очко» и «шестьдесят шесть». Вместо того чтобы жариться на солнце, подставляя ему свои болячки, я проходил свои «университеты»: сидел со Славочкой и Петечкой в тени навеса, шлёпая засаленными картами по фанерке, которую мои новые друзья клали на лежак для удобства. Играли мы не на интерес. Как партнёр я, разумеется, ничего из себя не представлял, но играть вдвоём было им несподручно.
Бабушка была в ужасе от моих приятелей, изо всех сил пыталась хоть как-то на меня воздействовать. Напоминала, зачем мы приехали в Сочи, зачем родители тратят большие деньги за наше пребывание на юге. Куда там!
Как она радовалась, когда отпуск Славочки и Петечки закончился и они, дав прощальный «банкет», во время которого немало ими было выпито, убыли: один – в солнечный Магадан, другой – в не менее солнечную Воркуту.
В нашем семейном альбоме случайно сохранилась фотография, где я, подросток, снят с нашей дворовой компанией: Ягодкиным, грозой окрестных кошек, голубей и электрических лампочек во всех ближайших подъездах, а также Халитом, Тахиром и Мансуриком (в нашем дворе на Татарской улице действительно жили татары, и их было много). На этом же фото запечатлены «два брата-акробата»: Серёжа и Вася с первого этажа. Два юных юдофоба. Дрался я с ними постоянно.
Мой сын, когда я показал ему этот пожелтевший фотодокумент, никак не мог поверить, что вот тот белобрысый шкет, который стоит в обнимку с такими же раздолбаями, – это я. Его папа.
Однако хулигана из меня – при всём моём старании и усердии – так и не вышло. Не последнюю роль в этом сыграла моя бабушка. Опыт по этой части у неё имелся. Район Шлюзовой набережной, один из самых неблагополучных в Замоскворечье, где прошло детство моего отца и его родного брата – дяди Миши, – кишмя кишел жуликами различных мастей и откровенными бандитами
* * *
Когда дом на Шлюзовой набережной сломали, бабушке дали комнату на улице Бахрушина, рядом со школой № 525, в которой я учился. И бабушка стала бояться соседей – буйного (когда напьётся) алкоголика Юрку, который был во хмелю страшен и бил смертным боем свою жену Тамарку. Та кричала благим матом и убегала прятаться в комнату бабушки. Любимой формой расправы Юрки над женой была такая: напившись, он выволакивал Тамарку в коридор за волосы и бил её руками и ногами – чем попало и куда попало. И всякий раз бабушка, если она была в этот драматический момент дома, – откуда только отвага появлялась! – отбивала Тамару у Юрки, как бы тот ни матерился и ни размахивал кулаками и ногами, и уводила к себе в комнату – прикладывать к наливающимся там и сям синякам бодягу.
У Юрки было много приятелей-собутыльников. Одним из самых колоритных и запомнившихся мне был Сашка – сын знаменитого в те времена актёра. Такой же алкоголик, как Юрка. Но, в отличие от бабушкиного соседа, тихий.
Кроме Юрки и Тамарки, в коммуналке на Бахрушина жил Николай Григорьевич, бывший сантехник, а потому (как ни крути – профессиональная болезнь!) алкоголик с многолетним стажем, и его жена Лида.
Николашка – как называли его все в коммуналке – был патологическим антисемитом, всё время рассуждал о том, что Гитлер и Сталин совершенно напрасно не решили окончательно «еврейского вопроса». Впрочем, это не мешало Николашке периодически просить у бабушки «руп» на опохмел. Надо отдать ему должное: деньги сосед всегда отдавал. И вскоре занимал снова.
Любимой присказкой Николашки была такая: «Да! Выпить я люблю!»
В дни рождения бабушки, в Новый год и по советским праздникам он поздравлял её, а она выносила ему стаканчик наливки на черноплодной рябине, которая всегда стояла в графинчике в бабушкином шкафчике. Градусов в наливке было не слишком много, не больше двадцати, но Николашка, у которого постоянно «горели трубы», с благодарностью опрокидывал в беззубую пасть и это доброхотное подношение.
Бывший сантехник был болен туберкулёзом в открытой форме. Иногда его увозили на принудительное лечение в больницу, но оттуда почти сразу выписывали – «за злостное нарушение режима»: он и в больнице умудрялся доставать водку и напиваться. Николашка перенёс несколько «белых горячек» и по коридору бабушкиной коммуналки обычно шарашился в кальсонах.
Бабушка опасалась, что он заразит чахоткой её и всех окружающих. Особенно боялась за меня.
Иногда я оставался ночевать у бабушки. Она, боясь, что я упаду во сне с её узкого диванчика (сама бабушка спала на кровати – тоже узенькой), приставляла к нему стулья. Засыпать мне удавалось далеко не сразу – из-за бабушкиного холодильника «Север», который по временам то включался, то выключался. Работал он очень шумно, и я старался заснуть в паузах между его очередными музыкальными пароксизмами. Выключаясь, «Север» трясся всем своим массивным телом и, присвистнув, затихал на пару минут. Чтобы, отдохнув, завести свою «си бемоль» сызнова.
Горячительное Николашка хранил в пристенном шкафу, примыкавшем к комнате бабушки Доры. С известной одному ему периодичностью – днём и ночью – он в своих кальсонах шкандыбал по коридору к заветному шкафчику, гремел там бутылками и утолял жажду. Этот звук – «звон бутылок, раздавайся!» – сопровождал всё моё детство. Я до сих пор слышу его во сне, так же, как хрип и всхлипывания холодильника «Север».
Лида, жена Николашки, туберкулёза не боялась и считала, что эта болезнь – незаразная для непьющих. Кстати, лично для неё так оно и было: как известно, одна зараза к другой не пристаёт.
Николашка называл себя просто и скромно: «Человек с большой буквой».
Будучи пролетарием, он с незапамятных времён состоял в КПСС. О своей партийной принадлежности он, однако, изъяснялся весьма уклончиво, вычурно и кучеряво: «Я не коммунист, а социал-демократ».
* * *
Ещё бабушка Дора очень боялась, что меня «посадят».
За «взгляды». Так она называла мои бойкие и довольно рискованные высказывания: о всевластии КПСС, о полупарализованном шамкающем генсеке-бровеносце, о выборах без выбора, о принципе «демократического централизма» – власти большинства над меньшинством, об истинных инициаторах и зачинщиках Финской войны 1939–1940 годов.
Ну никак я не хотел верить на слово нашей школьной учительнице истории, что это, дескать, империалистическая Финляндия, «агрессивная, – как говорила она на уроке, поднимая вверх указательный палец, – именно в силу своей капиталистической сущности», напала на миролюбивый Советский Союз, численность армии которого на тот момент была в два раза меньше, чем всё население Финляндии, включая стариков, старух и младенцев.
И в комсомол я вступать не торопился.
И в ежегодно проводившемся конкурсе пионерского (а потом и комсомольского) строя и песни не участвовал: вместо «направо» лихо поворачивался «налево», вместо поворота «кругом» делал поворот на 180 градусов и при этом самым наглым образом «ломал строй». В этом не было ни протеста, ни политики. Просто ходьба строем с одновременным пением бравых песен мне не давалась.
В конце концов, как та Стрекоза из басни Крылова, я допрыгался: моя дурацкая, безоглядная смелость и длинный язык в конце моего пребывания в школе привели к логичному итогу: наша классная руководительница выдала мне такую характеристику, что, когда я принёс её домой, мама, прочитав этот документ, смахивающий на приговор, схватилась сначала за валидол, а потом за голову: «Ты что, с ума сошёл! Тебя с такой характеристикой даже в тюрьму не возьмут!» И побежала к директору школы.
Маме было отчего хвататься за валидол. Мои многочисленные «подвиги» и «аполитичные» высказывания на уроках литературы, в том числе адвокатская речь в защиту Зощенко и Ахматовой (а наша классная была словесницей и считала Постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» от 14 августа 1946 года истиной в последней инстанции), отразились в следующих замечательных формулировках характеристики: «В общественной жизни участия не принимал, критиковал постановления партии и правительства, на уроках и во внеурочное время позволял себе антисоветские высказывания и выходки».
После того как мама прибежала к директору и выложила перед ней на стол мою характеристику (мама рассказывала, что, когда директриса дочитала сей скорбный документ, у неё очки упали с носа на стол), этот своеобразный «пропуск» в любое советское высшее учебное заведение – в моём случае в пединститут – переписали. Причём сделала это лично директриса. Моя классная, которую та сразу же вызвала в свой кабинет, стояла на своём и выдавать мне другую характеристику отказалась. Заявила потрясённой начальнице: «Что есть, то и написала! Пусть улицы метёт!»
Таким образом, опасения моей бабушки Доры, что меня «посадят», были вовсе не безосновательными.
* * *
Ещё бабушка Дора боялась начальников. Ничего хорошего от них она не видела. Но, когда в начале шестидесятых в Москве вдруг произошло перерайонирование и часть территории Кировского района вместе с домами и их жителями перешла к Москворецкому (пустячок, ерунда, но из очереди РОНО Кировского района на получение нового жилья, в которой мама стояла первой, её сразу же выкинули), бабушка пошла к этим самым начальникам, которым из года в год подавала в столовой еду (был у них в столовой, где работала бабушка, свой, особый зал – для начальничков) и добилась, чтобы маму восстановили в очереди на жильё – уже в Москворецком районе. Не будь бабушки, куковать бы нам с моими родителями и братом Игорем, который родился в 1961 году, в жуткой коммуналке на Раушской набережной ещё несколько лет. И это – в лучшем случае.
Я, маленький, ходил по новой квартире (в пятиэтажной блочной хрущёвке на Татарской) и загибал пальцы, считая, «сколько у нас комнатов». Получалось много: крошечная (вдвоём не развернуться) прихожая – это раз, совмещённый туалет с ванной – это два, маленький предбанничек перед кухней – три, пятиметровая кухонька – четыре. Две совмещённые комнаты (в одной, проходной, жили папа и мама, в другой, запроходной, – мы с братом ) – пять и шесть. А ещё малюсенькая кладовка, как мы её называли, «тёмная комната» – семь. И – восемь – балкон. Неслыханная роскошь!
И всем нашим знакомым я, к бабушкиному смятению, объявлял: «А нам дали квартиру в восемь комнатов!»
Я как-то спросил бабушку Дору: «А вот графы, князья и всякие капиталисты лучше, чем мы сейчас, жили?» Бабушка погладила меня по головке и произнесла загадочную фразу: «Сироженька, какой же ты смешной, мишигине!»
* * *
Бабушка Дора боялась, что я вырасту малосильным и худосочным, поэтому усиленно меня подкармливала. Особенно я не любил почему-то есть хлеб и обычно оставлял его лежать на столе. Бабушка реагировала на эту мою нелюбовь к хлебу так: «Хлеб – свидетель!» Она любила и умела готовить. Накормить кого-либо чем-нибудь вкусненьким было для неё величайшей радостью. Даже унылые магазинные пельмени, если в доме больше ничего другого не было, она готовила так, что пальчики оближешь. До сих пор помню, как они аппетитно шкварчали на сковородке: бабушка никогда не подавала их варёными прямо из кастрюли, а всегда поджаривала.
Если же продовольственного кризиса в музыкальном холодильнике «Север» не было, на стол, кроме всего прочего, подавался потрясающий форшмак и такие вкусные и пышные котлеты, которые даже я – в детстве «едок ещё тот» (поговорка бабушки Дора) – уписывал за обе щеки. Любимая присказка, когда она готовила, была такая: «Готовить надо с душой!»
Она всё делала с душой. Иначе не умела.
Эту страсть – к приготовлению пищи – перенял у бабушки и мой отец: в будни в нашем доме кашеварила мать, а праздничные блюда сооружал только отец. «Гефилте фиш» – фаршированный судак или карп – в его исполнении всегда был настоящим произведением кулинарного искусства.
Вот эта – кулинарная – жилка есть и в моём двоюродном брате Саше. Вовсе не случайно он стал первоклассным поваром.
Надо отдать бабушке Доре должное. Малосильным и худосочным я был только в детстве, а в юности выправился.
* * *
7 мая 1975 года, к тридцатилетию окончания Великой Отечественной войны, на обувной фабрике имени Парижской коммуны, где до июля 1941 года мой дед, Герш Вольфович Штильман, работал закройщиком, открыли памятник с мемориальной доской, на которой были высечены имена работников фабрики, которые ушли на фронт и погибли.
Список был внушительный – больше ста фамилий. Моего деда в списке погибших не было, хотя он сразу же после начала войны в числе других 738 работников фабрики добровольцем записался в 9-ю Кировскую дивизию народного ополчения. Дед повредил на работе сухожилия на правой руке, поэтому у него не сгибались два пальца: указательный и средний. Но он всё равно рвался на фронт. Чтобы ему поставили в формуляре заветное «годен», на призывную медицинскую комиссию в военкомат, по просьбе деда, пошёл его друг.
В документе, который получила во время войны бабушка Дора, значилось: «Пропал без вести».
Дивизия народного ополчения Кировского района Москвы, в которой воевали 8700 человек, как и другие такие же дивизии, понесла огромные потери. Поэтому ничего нет удивительного в том, что мой дед, подобно многим сотням бойцов-ополченцев, «пропал без вести».
И вот бабушка – человек мирный и неконфликтный, – поскольку это касалось не лично её, а памяти погибшего мужа, начала бороться за то, чтобы его имя было выбито на той самой памятной стеле.
Она ходила по районным военкоматам – ей отказывали. Один из тамошних деятелей заявил бабушке: «Откуда мы знаем? Может, ваш муж сейчас где-нибудь в Аргентине или Бразилии живёт в своё удовольствие, а мы будем его память увековечивать?»
Вот как было объяснить ему, что мой дед, так же, как дядя Гриша, муж тёти Сарры, родной сестры бабушки Доры, не представлял себе жизни без своей семьи. Что семейственность – в крови этих людей. Что семья для них – всё.
И она шла – от одного воинского начальника (более или менее крупного) к другому. Столичных начальников сменяли провинциальные и периферийные. Бабушка ездила и в те места, где воевал дед, надеясь найти правду там. Но и другие, не столичные начальники отвечали ей стереотипно, как автоматы: «Не положено! Ваш муж пропал без вести. А на памятнике – имена только тех, чьи вдовы получили повестку: «Пал смертью храбрых!»
Проходила зима, наступала весна. Страна отмечала очередную годовщину победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Один раз в год, 9-го мая, на фабрике имени Парижской коммуны открывали доступ к памятнику. Фамилии деда там не было.
Проходил ещё один год. Потом ещё один.
Бабушка Дора терпеливо продолжала обивать пороги начальников, от которых зависело распоряжение – чтобы среди имён погибших в той страшной войне работников обувной фабрики было и имя её мужа.
Так продолжалось семь с половиной лет.
* * *
Хождение бабушки Доры по мукам так ни к чему бы и не привело, если бы ей не удалось прорваться к тогдашнему военкому Москвы.
К самому военному комиссару города Москвы.
Случилось чудо!
Как она попала на приём к генералу – уму непостижимо.
Но пробилась! Тот, выслушав бабушку, полистав толстенную папку, куда бабушка складывала бумажки, на которых накосо в левом верхнем углу – то красным, то синим карандашом, а то и ручкой – различными начальничками была наложена одна и та же, стереотипная резолюция: «Отказать!» А потом вызвал секретаря и велел выдать соответствующую бумагу.
И, прощаясь с бабушкой, военком сказал: «Вот крючкотворы! Всё же ясно!»
* * *
Среди наших семейных реликвий есть и такая – фотография, на которой запечатлены моя бабушка – Дора Борисовна – и дед – Герш Вольфович. Они совсем молодые. Светит солнце. Тепло. Погожий летний день. Бабушка – молодая, красивая – обнимает деда. Ей лет тридцать. Не больше. Столько же примерно и деду. Он смотрит куда-то, понимая, что его в этот момент фотографируют. На лице деда блуждает улыбка. Видно, как хорошо им вдвоём.
Сколько им ещё осталось быть вместе? Год? Два? Чуть больше?
Они ещё не знают о том, что скоро начнётся война, которая разрушит, искалечит нашу страну и их семью.
Бабушка в молодости была очень красивой. И не только в молодости. После войны на неё многие заглядывались. И звали замуж. Но она осталась верна деду. И воспитывала детей – моего отца и его младшего брата, дядю Мишу.
И выдержала все ужасы войны и эвакуации, послевоенную разруху и голодуху.
И вывела своих сыновей в люди.
* * *
Бабушкины многолетние хождения по мукам не прошли для неё даром. Она тяжело заболела. Горькая ирония! – циррозом печени, хотя всю жизнь прожила трезвенницей. Вина почти не пила. Если и держала в доме наливку из черноплодной рябины, то только для гостей. На праздник.
Незадолго до смерти, хотя бабушка Дора была в тяжёлом состоянии, перед майскими праздниками, упросила врачей, чтобы её под расписку выпустили из больницы. Хотя бы ненадолго. Хотела своими глазами увидеть фамилию мужа на памятной стеле.
9 мая 1983 года отец и дядя Миша отвезли её к памятнику.
Бабушка очень волновалась: «А вдруг забыли?»
Но нет. Не забыли.
Имя деда выгравировали последним в том скорбном списке – в самом низу. Слава Богу, нашлось и для него на той стеле место.
* * *
В последний раз – живой – я видел бабушку Дору в больнице, куда сразу же после Дня Победы её снова положили. Уже в забытьи, она что-то сжимала в кулаке. Оказалось – кусочек какой-то тряпки. Бабушка судорожно сжимала его, словно пыталась каким-то невероятным усилием удержаться в этой жизни.
* * *
Умерла бабушка в тот же день, что и родилась: 28-го числа. Только родилась она в декабре, а умерла в июне.
* * *
У моего деда Герша нет могилы. Правда, на еврейском кладбище в Малаховке, на могильной плите моего прадеда Вольфа – отца деда, есть три фотографии: Герша, его родного брата Миши и Яши, мужа одной из дочерей Вольфа – Цили, – тоже не вернувшихся с войны. С той войны из трёх сыновей прадедушки Вольфа и прабабушки Рахили живым вернулся только дядя Муля. Вернулся калекой.
Из года в год в День Победы мы приносим цветы на могилу прадеда. На могилу дяди Мули и других наших умерших и павших.
Долгие годы мы были уверены в том, что памятник, где выбито имя моего деда, открыт для посещения только 9 мая, и не приходили сюда. Сложно было совместить поездку на кладбище в Малаховку, ставшую традицией для всей нашей большой семьи, с посещением памятника в Кожевниках.
* * *
О том, что с некоторых пор доступ к памятнику открыт круглогодично, я узнал от своего двоюродного брата Саши.
При первой же возможности поехал туда. Купил красные гвоздики – любимые цветы бабушки Доры.
Фамилия деда действительно там была. Самой последней.
Я не сразу понял, что там не так. Инициалы деда – «Г. В», Герш Вольфович. А на памятнике было выбито «Г. Б.»
«Штильман Г. Б.»
Видно, гравировщик перепутал.
Не знаю, что испытала бабушка, увидев подмену. Не заметить её она не могла. Ничего об этой подмене мне тогда не сказали. Мой отец не хуже бабушки Доры умел держать язык за зубами.
* * *
Благодаря бабушке Доре это место – в устье Кожевнического переулка – стало для меня и моих близких особым.
Здесь – в небольшом кафе напротив памятника – мы отмечаем наши праздники-юбилеи.
Здесь в 2017 году я собирал учеников моего первого, 1988 года, школьного выпуска, когда вышла книга моей прозы.
Из окон кафе видна стела, на которой выбиты имена работников обувной фабрики «Парижская коммуна», которые не вернулись с войны.
И последний в этом списке – мой дед. Герш Вольфович Штильман.
Имя которого – пусть и с ошибкой – выбито на той стеле. Выбито благодаря подвигу моей бабушки.
* * *
Когда я думаю, в какое время жила моя бабушка, мне, кроме всего прочего, приходит на ум вот что.
Бабушка Дора родилась в 1908 году на Украине, в Бердичеве, в черте оседлости. И не понаслышке знала, что такое еврейские погромы.
Ей не нужно было объяснять, что такое «чёрные воронки», звонки в дверь, многочасовые обыски и аресты глубокой ночью в конце тридцатых, сороковых и в начале пятидесятых годов.
Что такое «дело врачей-вредителей» и дикие приступы ксенофобии в последние годы жизни Сталина.
Что такое «пятый пункт» в паспорте.
Как я теперь понимаю, она боялась вовсе не за себя, а за нас, неразумных. В том числе и за меня.
И сама выстояла, и нам помогла не сгинуть, не пропасть.
Я убеждён: не будь таких, как она, не победили бы мы в той страшной войне, что началась в 4 часа утра 22 июня 1941 года.
20–26 апреля 2019 года. Москва
Иллюстрация автора