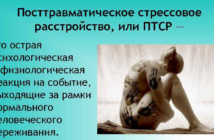Автор: Никита Аронов
Ученые Еврейского университета нашли молекулярный механизм, связанный с разными расстройствами аутистического спектра. Дело, судя по всему, в оксиде азота, который накапливается в мозге. Похоже, это позволит наконец-то сделать эффективные лекарства от аутизма. Работа над таким препаратом уже началась. Об исследовании пишет «ХаАрец», «Детали» переводят статью с небольшими сокращениями.
По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно один ребенок из сотни детей в мире страдает аутизмом. В США – даже один из 30. И каждый четвертый человек с таким расстройством нуждается в серьезной поддержке.
Молекулярные механизмы аутизма до последнего времени оставались неясны, поэтому и направленных лекарств не существовало. Но ученые из Еврейского университета в Иерусалиме нашли один такой механизм. Их новая научная статья демонстрирует, что к аутизму может приводить повышение уровня оксида азота в мозге. Это весьма распространенная в организме молекула-нейротрансмиттер, состоящая из одного атома азота и одного атома кислорода.
Руководил исследованием Хайтам Амаль, специализирующийся в фармакологии и нейробиологии. Первая идея в этом направлении пришла к нему в 2015 году во время работы в Массачусетском технологическом институте в лаборатории профессора Стивена Танненбаума, который еще за 40 лет до того обнаружил, что оксид азота вырабатывается в организме человека.
Танненбаум изучал роль этой молекулы в развитии рака и воспаления. Амаль задумался о ее связи с аутизмом. Он, например, выяснил, что если вызвать у лабораторных мышей мутацию, связанную с человеческим аутизмом, то у них резко растет концентрация оксида азота в головном мозге.
Читайте также:
Почти как Netflix – для особых детей
ЦАХАЛ призывает «высокофункциональных аутистов»
На спине еврейского подростка-аутиста вырезали свастику
Амаль вернулся в Израиль с мечтой продолжить свои исследования. Первым шагом стало изучение образцов крови аутичных детей из Медицинского центра «Шаарей цедек» в Иерусалиме. Уровень оксида азота в них оказался выше нормы.
Потом ученый провел опыт на мышах. Им ввели в мозг эту молекулу в большой концентрации, что привело к аутистическому поведению. Как вообще можно обнаружить у грызунов аутизм, они ведь не люди и психика у них проще нашей? Оказывается, существует эксперимент с двумя клетками. В одной сидит мышь, другая – пустая. И вот в помещение впускают подопытное животное.
«Вы проверяете, как долго мышь проявляет интерес ко второй мыши и сколько внимания она уделяет пустой клетке, – объясняет Амаль. – Еще один способ – показать животному новые объекты и посмотреть, заинтересуется ли оно. Есть много примеров того, что аутичные дети снова и снова играют в одни и те же игры, потому что у них нет никакого интереса к новым объектам».
Когда тесты на новизну и социальное поведение показали, что из мышей удалось сделать аутистов, решено было попробовать лечить расстройство, а для этого ингибировать, то есть выключить, фермент, отвечающий за производство оксида азота в организме. Вещества, способные это сделать (а их довольно много), вводили сначала в клетки в пробирке, а потом – прямо в мозг мышам. И одно из них оказалось особенно эффективным.
После таких манипуляций у мышей в анализах пришли в норму и биомаркеры, связанные с аутизмом. А на нервных клетках увеличилось количество так называемых дендритных шипиков, малое число которых тоже характерно для аутистов.
На следующем этапе ученые взяли две группы мышей. У них вызвали две разные по своим механизмам человеческие мутации, связанные с аутизмом. Обе касаются передачи нервных импульсов через синапсы, но одна оказывает свое действие до синапса, а другая – после. Мышам ввели ингибитор, уровень оксида азота в мозге снизился, и поведение сильно изменилось.
Теперь мыши в два с половиной раза активнее вовлекались в социальные взаимодействия и интересовались новым. Поведение же, связанное с тревогой (еще один аспект аутизма), стало реже в семь раз.
«То, как они себя вели, очень напоминало поведение мышей без мутации», – констатирует Амаль.
Этот результат подтвердился на более чем 700 мышах. Интересно, что среди них были и самцы, и самки, хотя во многих неврологических и психиатрических исследованиях используют только самцов.
«Известно, что на каждых четырех мальчиков с диагнозом «аутизм» приходится одна девочка, но многие исследования показывают, что девочек просто недостаточно диагностируют, потому что предполагают, что у них не так часто бывает аутизм», – объясняет Амаль.
Два года назад он уже опубликовал исследование, указавшее на гендерные различия при реакции мозга на воздействие оксида азота. «Мозг мужчин и женщин не одинаков, и это может повлиять на проявление расстройства и его лечение», – уверен Амаль.
Мышами ученые не ограничились и поставили опыты над нейронами человека в пробирке. В этих клетках заранее заложили мутацию, типичную для детей с аутизмом. Потом изучили стволовые клетки, взятые у детей с этим расстройством. После ввода в эти культуры молекулы-ингибитора биомаркеры аутизма в клетках значительно изменились.
Главная проблема с изучением аутизма состоит в том, что с этим заболеванием связаны сотни разных мутаций. Но исследование Амаля дает надежду на выработку единого лекарства, поскольку в большинстве случаев у аутизма есть общие и неизменные черты.
До сих пор Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило только два метода лечения аутизма. Оба изначально предназначались для борьбы с шизофренией и славятся серьезными побочными эффектами.
Теперь Амаль, Еврейский университет и университетская компания по передаче технологий Yissum подписали соглашение с американской фирмой о совместной разработке препарата, снижающего уровень оксида азота в мозге. Название компании пока не разглашают. До клинических испытаний еще далеко, и, как всегда, нет никакой гарантии, что лекарство будет работать. Но Амаль смотрит вперед с оптимизмом, и не только он.
«Это исследование добавляет переменную, которая была неизвестна и которую трудно исследовать. Это важная и новаторская работа», – отмечает профессор нейробиологии из Хайфского университета Коби Розенблюм, не принимавший участия в исследовании Амаля и его коллег. Он обращает внимание на то, что аутизм на самом деле представляет собой множество состояний, объединенных из-за сходства в поведении, а не из-за генетического или молекулярного сходства. «Эксперименты с мышами, человеческими клетками и плазмой не являются прямыми измерениями в человеческом мозгу», – отмечает Розенблюм.
«Исследование дает убедительные доказательства того, что оксид азота – общий знаменатель двух известных типов аутизма», – тем не менее заключает он.
Профессор Иллана Гозес с медицинского факультета Тель-Авивского университета тоже высоко оценивает исследования доктора Амаля. «Его работа показывает, что эта молекула связана с разными типами аутизма, – говорит она. – Амаль исследовал несколько генов, каждый из которых связан с аутизмом посредством оксида азота. Это инновационный подход, позволяющий избежать узкого взгляда».
Профессор Гозес уверена, что следует глубже изучить биохимию аутизма. Это помоет сделать лекарство, возможно, не одно, а целый коктейль, как при раке или ВИЧ.
Розенблюм отмечает сложность разработки таких лекарств. «Согласно новой модели Амаля, надо создать новое динамическое равновесие оксида азота в головном мозге у аутичных детей без изменения концентрации оксида азота в других органах», – говорит он.
Иллюстрация: