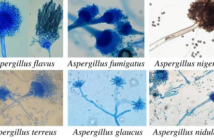ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Привет! Мы посылаем вам «Сигнал».
Надеемся, у вас уже потеплело.
Наше сегодняшнее письмо — об импортозамещении. За без малого 10 лет, как это слово вошло в России в широкий обиход, оно превратилось из названия экономической политики в идеологему. Такое вообще часто случается с терминами, которые почему-то привлекли внимание российских властей.
Это письмо написала Маргарита Лютова, экономический журналист, специальный корреспондент «Медузы».
Перешлите это письмо вашим близким и друзьям, если оно покажется вам интересным. И не забудьте подписаться на нашу рассылку, твиттер и телеграм. Все ссылки можно найти на сайте. Обратите внимание, что в начале этого письма есть ссылка на веб-версию, ею можно делиться.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года заявил: «У нас есть все для того, чтобы и безопасность обеспечить, и создать условия для уверенного развития страны. Именно в этой логике мы и действуем, и будем действовать дальше».
Слово «импортозамещение» он в этот раз не употребил — но имел в виду, разумеется, именно его. На сайте Кремля это слово с 2000 по 2013 год упоминается 38 раз, а с «крымского» 2014-го по сей день — 450. К началу полномасштабной войны в Украине импортозамещение уже восемь лет было главным провозглашенным принципом российской экономической политики.
Некоторые официальные лица даже не стеснялись признавать фиаско этой политики. В апреле 2022 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сокрушалась: «Для меня было неким открытием — у нас гвозди импортные. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла». В мае сенатор Андрей Клишас писал в своем телеграм-канале: «Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах».
Уже через несколько дней после поста Клишаса Владимир Путин заявил: «Конечно, не все удалось сделать за предыдущие годы в области импортозамещения. <…> Но здесь ничего страшного нет: по ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое». То есть дело не в том, сколько в России импортного оборудования и товаров и что с отечественной продукцией. Главное, чтобы суверенитет был под защитой.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ — ЭТО ВООБЩЕ РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА?
Как и всякая другая политика, она сама по себе не хороша и не плоха — все зависит от реализации.
Спор о защите отечественного производителя — один из древнейших в экономической науке. Причем аргументы спорщиков по сути мало изменились со времен Адама Смита. С одной стороны, если страна много импортирует — она тратит свои деньги на поддержку чужих производителей. С другой стороны, производить все необходимое исключительно внутри страны будет слишком дорого: можно, конечно, и в горах Шотландии разводить виноград в теплицах, но вино из него будет во много раз дороже французского. Кроме того, если запретить импорт и тем самым ограничить выбор потребителей, отечественные производители смогут взвинтить цены и не особенно заботиться о повышении качества своей продукции.
Очередной виток этого спора случился во второй половине XX века. Важнейшим теоретиком импортозамещения стал в 1950-е годы аргентинский экономист Рауль Пребиш. Он отмечал, что слаборазвитые страны (прежде всего Латинская Америка) торгуют в основном сырьем — и в мире свободной торговли обречены оставаться в этой невыгодной нише: низкая добавленная стоимость их продукции не позволит им накопить ресурсы для индустриализации.
Как считал Пребиш, из этой ловушки экономика может вырваться только при помощи государства — в частности, политики импортозамещения: надо сократить импорт потребительских товаров и за счет этого нарастить импорт оборудования для промышленности, чтобы начать производить те же самые товары у себя в стране.
Для сокращения импорта можно установить повышенные ввозные пошлины на такую продукцию, ввести квоты, лицензирование и прочие ограничительные меры. Конечной целью, по Пребишу, должно быть наращивание экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью, то есть встраивание в мировую экономику на более выгодных условиях.
Когда разные страны стали прибегать к этой политике, обнаружилось, что на практике ограничения на импорт нередко используются не для того, чтобы повысить эффективность своей экономики и экспортировать больше, а просто чтобы защитить отечественных производителей от иностранной конкуренции на внутреннем рынке. Более того, государственной поддержкой пользуются те компании, у которых есть тесные связи с властями. Такое импортозамещение, говорил Пребиш, вредит экспорту и в корне противоречит его изначальной идее.
Уже в 1970-е Международный валютный фонд (МВФ) признавал, что импортозамещение помогло многим странам ускорить экономический рост, но оговаривался, что это ускорение было связано со значительными издержками, которые порой превышали выигрыши и, что еще хуже, закладывали мину замедленного действия под долгосрочные перспективы экономики.
Большинство специалистов окончательно разочаровались в импортозамещении к концу 1980-х. В это время британский экономист Джон Уильямсон сформулировал так называемый вашингтонский консенсус — свод принципов, которыми руководствовались страны Латинской Америки, пытаясь перезапустить экономический рост после кризиса 1980-х.
Эти принципы МВФ и Всемирный банк стали рекомендовать всем развивающимся странам. Одним из них была полная либерализация торговли, то есть, в частности, отказ от политики импортозамещения: пусть все конкурируют со всеми в глобальном масштабе, пусть ни у кого не будет никаких преференций — тогда и рост будет устойчивым, и не будет ценовых искажений, от которых страдают потребители. Из вашингтонского консенсуса родом пресловутая глобализация.
В 1990-е одним из главных критиков глобализации среди академических экономистов стал гарвардский профессор Дэни Родрик. Он предвидел, что от глобализации будут выигрывать не все страны мира и не все люди внутри этих стран. Это может привести к откату от интеграции в мировую экономику, а внутри стран — к поддержке ультраправых сил и популистов.
Другие современные сторонники импортозамещения делают упор не на ограничение импорта (и даже рекомендуют воздерживаться от таких мер), а на поддержку национальных производителей со стороны государства — например, в виде субсидий или более выгодных условий при кредитовании. При этом необходимо иметь высокое качество государственного управления и эффективные институты, иначе адресаты поддержки будут отбираться не по их потенциалу, а по их близости к власти, а полученные ими средства могут пойти совсем не на развитие производства.
Количество протекционистских мер, введенных по всему миру, резко возросло из-за глобального финансового кризиса 2008–2009 годов. Во время кризисов странам вообще свойственно защищать свои рынки, а также сокращать импорт, чтобы не тратить валюту. Но и после кризиса многие ограничительные меры в торговле снимались не сразу, а иногда и появлялись новые.
Самым ярким примером новейшего популистского протекционизма, конечно же, было президентство Дональда Трампа в США в 2017–2021 годах. Он ввел заградительно высокие пошлины на множество товаров из Китая, Мексики, Канады и ЕС (то есть всех основных торговых партнеров США) — якобы чтобы в Америке заработали собственные промышленные предприятия.
Исследования показали: от этих мер Трампа немного выиграли в зарплатах рабочие предприятий, где удалось нарастить выпуск товаров на замену импортным. Но одновременно пострадало намного больше рабочих на всех остальных предприятиях — тех, где использовали импортные комплектующие, и тех, чья продукция шла на экспорт, а теперь столкнулась с торговыми ограничениями, которые вводили другие в ответ на действия США.
Пострадали и все американские потребители: подорожала и импортная продукция, обложенная повышенными пошлинами, и аналогичные американские товары. Например, когда США ввели высокие ввозные пошлины, о которых просили американские производители стиральных машин, поднялись цены и на машины, произведенные в Штатах, а вслед за стиральными подорожали еще и сушильные машины: пошлин на них не было, зато их часто покупают вместе. Один из американских экономистов вспоминал тогда афоризм начала XX века: «Импортная пошлина — это налог, который защищает отечественного производителя от жадности отечественного потребителя».
ТО ЕСТЬ В РОССИИ ПРОСТО НЕПРАВИЛЬНО «ИМПОРТОЗАМЕЩАЮТ»?
Да.
Одна из самых вредных российских программ импортозамещения начала готовиться еще в 2007 году, задолго до аннексии Крыма, санкций и «контрсанкций», при активной поддержке Владимира Путина — это импортозамещение в фармацевтике. В начале 2007 года Путин ругал правительство за перебои в обеспечении льготников лекарствами. Мало того, свыше 90% льготных лекарств оказались иностранного производства, возмущался президент.
К концу 2009 года, когда Путин уже на время пересел в правительство, чиновники наконец утвердили стратегию развития российской фармацевтической промышленности до 2020 года. Этот документ среди прочего провозгласил «приоритет замещения импортных лекарственных средств отечественными». А в 2011 году для воплощения этой стратегии в жизнь была принята федеральная программа «Фарма-2020» («Медуза» подробно писала о ее неутешительных итогах с точки зрения российского рынка лекарств).
В 2021 году российские экономисты Евгений Яковлев и Маргарита Хван выяснили, что смертность от болезней, лекарства от которых так или иначе попали под госрегулирование и протекционизм, начала резко и неуклонно расти после 2012 года, хотя до этого снижалась. В то же время смертность от прочих заболеваний, препараты от которых не подпадали под импортозамещение, продолжала сокращаться и после 2012-го.
Яковлев и Хван перечисляют несколько возможных причин: из-за плохого регулирования то и дело возникал дефицит многих лекарственных препаратов (включая базовые вроде инсулина), а эффективность российских дженериков, которые должны были заменить импортные лекарства, могла быть ниже.
Продовольственное импортозамещение, по сути, сработало аналогичным образом. После того как Россия (формально — в ответ на западные санкции) запретила ввоз продуктов из «недружественных стран», российские компании получили дополнительные доходы, ведь теперь у их продукции практически не осталось конкурентов.
А заплатили за это российские потребители. Экономисты подсчитали: продовольственные «контрсанкции» обошлись россиянам примерно в 445 миллиардов рублей в год в виде дополнительных расходов на подорожавшие продукты — это примерно 300 рублей в пересчете на каждого гражданина, включая детей.
Идея импортозамещения с самого начала не вызывала энтузиазма ни у кого, кроме чиновников. Например, опрос российского бизнеса, который провели исследователи из Института Гайдара в октябре 2014 года, показал: более половины компаний российской промышленности не смогут или не захотят переходить на отечественные оборудование, сырье и материалы. В том же опросе бизнес предупреждал: цены на сырье и комплектующие могут вырасти, а качество, скорее всего, снизится. Семь лет спустя, когда вроде бы должны были появиться какие-то эффекты импортозамещения, оказалось, что все осталось по-прежнему или даже стало хуже.
Помимо дефицита промышленного оборудования, в России имеется дефицит капитала: развитие отечественных производств требует инвестиций, а взять их неоткуда, поскольку бюджет ныне идет в основном на войну, внешний рынок заимствований фактически закрыт из-за тех же санкций, а собственная банковская система (на которую Путин очень надеется, судя по его последнему посланию Федеральному собранию) крайне неохотно кредитует реальный сектор российской экономики из-за высоких рисков.
Плюс сложности с логистикой: далеко не все международные транспортные компании готовы поставлять грузы в Россию, например, из-за проблем с их страхованием.
Плюс кадровая проблема: задолго до мобилизации и массового отъезда россиян из-за войны российский бизнес постоянно жаловался, что квалифицированных работников не хватает, а сейчас их явно будет еще меньше.
Плюс сложности со сбытом: внутренний рынок мал, а на внешних либо санкции, либо низкий спрос на российскую продукцию (как в Китае, например), либо низкая платежеспособность (как в Беларуси, КНДР, Эритрее, Мали, Сирии или Никарагуа — эти страны поддержали российскую позицию на последнем голосовании в ООН по резолюции о войне в Украине).
В современном мире для успешного импортозамещения нужно быть встроенным в мировую экономику, а точнее — в глобальные цепочки поставок. Россия до войны была их частью, но как поставщик сырья и базовых комплектующих — по подсчетам Всемирного банка, почти треть российского экспорта составляла продукция с низкой добавленной стоимостью. А на более сложные товары (то есть с высокой добавленной стоимостью) приходилось лишь 10% экспорта — против, например, 17,5% у Китая и почти 15% у Индии. До войны Всемирный банк видел в этих грустных российских данных и позитивную сторону — значит, есть куда расти.
Иными словами, российское «импортозамещение» имеет довольно мало отношения к тому импортозамещению, о котором некогда говорил Рауль Пребиш. Собственно говоря, это слово стало эвфемизмом закрытия экономики — причем одновременно и снаружи (при помощи санкций, которые вводят многие внешнеторговые партнеры России), и изнутри (при помощи «контрсанкций»). Случилось именно то, о чем 70 с лишним лет назад Пребиш предупреждал как о главной опасности превратно понятой идеи импортозамещения.
С началом полномасштабного вторжения в Украину российские чиновники и пропагандисты с новыми силами заговорили об импортозамещении. Многие патриотически настроенные комментаторы отмечали, что настал звездный час для российских производителей, продукция которых наконец появится на освобожденных от импорта российских прилавках. Час, может, и наступил — а успехом тот же Путин теперь провозглашает не взлет отечественной промышленности (которого и близко не случилось), а то, что «экономика России преодолела возникшие риски», то есть не развалилась.
Впрочем, власти, кажется, не так уж важны реальные успехи промышленности. «Импортозамещение» — это для них давно уже не столько экономическая политика, сколько идеологема: мол, у нас суверенитет, «особый путь» — и все для этого есть.
Одновременно импортозамещение за последние годы стало еще одним символом лицемерия российской власти: чиновники и поддерживающие их пропагандисты говорят об импортозамещении в микрофоны иностранного производства, передвигаются на иностранных машинах, носят иностранные бренды и так далее.
НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ, КОТОРОЕ МЫ СДЕЛАЛИ, ПОКА ГОТОВИЛИ ЭТО ПИСЬМО
Весной 2022 года российский Центробанк фактически признал, что отечественную промышленность ожидает деградация: она так или иначе научится удовлетворять внутренний спрос, но ей придется довольствоваться худшим оборудованием, а потребителям, соответственно, более низким качеством. Финансисты придумали для этого эвфемизм «обратная индустриализация» — промышленность российского будущего, скорее всего, будет работать на технологиях прошлого.
ПОСТСКРИПТУМ
В январе американский писатель Дэн Китроссер запустил подкаст о Светлане Аллилуевой, дочери Иосифа Сталина. Она прожила удивительную жизнь: в детстве сидела на коленях у Берии, два раза эмигрировала из СССР, состояла в странной коммуне американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта, исследовала творчество Бориса Пастернака. Почитайте интервью Китроссера о судьбе этой женщины и об интересе американской аудитории к советской и российской истории.
Мы послали вам «Сигнал» — теперь ваша очередь. Отправьте это письмо своим друзьям и близким. Знание — сила. Будущее — это вы.
Автор: Маргарита Лютова
Прислал проф. А.Болштянский.
Иллюстрация: Flickr
ff4a009ba1f59d865f0301f85