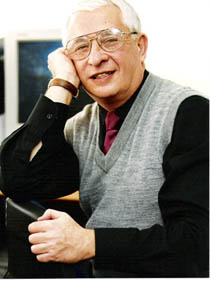Часть четвёртая
Зрелый декан
Глава 10. Становление
10.1
Наступил 1979 год. Зимняя сессия закончилась. Начались студенческие каникулы. Институт без студентов был пустой и непривычно тихий. Преподавателей в здании института тоже не было видно. Приходили они на работу, если только были какие-нибудь мероприятия. Но деканы должны были находиться на своих местах, так как в любой момент могли понадобиться кому-нибудь из руководства.
Сегодня Алексей Натанович был в деканате недолго, а потом пошёл на свою кафедру. Там, как обычно, за своим столом сидел профессор Прохоров. Больше никого в аудитории не было.
– Здравствуйте, Владимир Петрович, – приветствовал его Алексей Натанович.
– Здравствуйте, здравствуйте, Алексей Натанович. Рад видеть. Не балуете вы нас своими визитами.
– Да как-то не получается. Декан по всем инструкциям обязан быть в деканате два часа в день. А я торчу там с утра до вечера. Всем хочется со мной поговорить, посоветоваться, не могу никому отказать. Уж очень хлопотная должность.
— Вопросы у студентов никогда не закончатся, а вы о себе немного подумайте.
– Как ни странно, но ко мне больше обращаются со своими проблемами преподаватели, а не студенты.
Последние слова Соловьёва Прохоров оставил без комментария. Но неожиданно спросил:
– Алексей Натанович, вы на лыжах ходите?
– Да, и вроде неплохо. Когда-то я серьёзно занимался спортом. Правда, не лыжами, а баскетболом. А в связи с чем такой вопрос?
– Станет теплее, примерно в конце марта, мы вернёмся с вами к этому разговору, если не возражаете?
– Не возражаю.
– Очень хорошо. Дело в том, что у меня в тундре живут друзья – замечательные люди. Я к ним довольно часто езжу в гости, если, конечно, погода позволяет.
– Как это живут? Постоянно?
– Да, постоянно, представьте себе. Они беглые. Правда, поневоле. Их советская страна забыла перед войной в глухой тундре. Когда-нибудь я расскажу вам эту историю. Исключительно интересно, а главное – весьма поучительно. Робинзон Крузо с графом Монте-Кристо просто отдыхают.
Профессор Прохоров сделал паузу, ожидая вопросов. Но Соловьёв молчал, обескураженный услышанным. Он и представить себе не мог, что в наше время может быть такое. Однако всё же спросил:
– Перед какой войной?
– Как перед какой? Перед Великой отечественной, 1941 года.
Весь день разговор с Прохоровым не выходил у Алексея из головы. Он думал о людях, которые в одиночестве прожили около сорока лет в тундре, общаясь только с теми, кто изредка приезжал к ним в гости. Да и то наверняка в последние годы. При этом профессор назвал их друзьями. Теперь Соловьёву стало понятно, почему Прохоров не улетает отдыхать на «материк», а проводит все свои отпуска в Норильске. Рассказав об этих людях, Прохоров продемонстрировал не только большое доверие к нему, но и желание поделиться чем-то своим, сокровенным. Осталось только дождаться, когда пойдут на убыль суровые зимние морозы и начнётся лыжный сезон.
10.2
Сегодня новоиспечённые инженеры – первый выпуск студентов в бытность его деканом факультета – пригласили своих преподавателей в ресторан на торжественный ужин по поводу получения дипломов. Алексей Натанович любил такие застолья, когда можно посидеть со своими воспитанниками без необходимости кого-то наставлять, а главное, что-то умное и к месту говорить. Просто слушать их разговоры, шутки, реплики, в том числе и в свой адрес. Подзарядиться их энергией, оптимизмом, молодостью и красотой.
Глядя на этих повзрослевших ребят, с которыми был связан пять лет, Алексей Натанович ощутил чувство гордости за них и немножко за себя. Группа была небольшая, всего 16 человек, но очень дружная и активная. Старостой группы числилась Света Пономарёва, но заправляла всем её близкая подруга Люся Перепёлкина. Вот и сейчас, когда приглашённые заняли свои места и за столом стало более или менее тихо, Люся бойко объявила:
– Дорогие друзья, наши любимые преподаватели, которые никогда не станут бывшими! Позвольте первое слово предоставить нашему декану, большому другу студентов Алексею Натановичу.
– Спасибо, Люся, за оказанную честь. Дорогие коллеги, предлагаю поднять бокалы за вас, молодых инженеров. Успехов во всём.
– Алексей Натанович, ну что вы так коротко и уж очень официально? – вскочила со своего места неугомонная Перепёлкина.
– Хорошо, я добавлю несколько слов. Дело в том, что при всём моём искреннем расположении к студентам, я представляю деканат. А это карающая инстанция. В древние времена деканом назывался человек, надзирающий над десятью монахами или солдатами. Потом значение термина расширилось и объектом его внимания стали студенты. Но суть должностных обязанностей декана от этого не изменилась. Так вот. Трудно себе представить, чтобы надзирающий вступал в дружеские отношения с теми, за кем обязан следить и периодически наказывать.
– Но вы же вступаете, – возразила ему бывшая староста группы Пономарёва.
– Будем считать, что я – редкое, нарушающее все правила, исключение.
– Ура, за здоровье нашего любимого декана!
Шутливый тон, который задал за столом Алексей Натанович, поддерживался в разговоре до конца вечера. По окончании встречи, когда Алексей Натанович подавал шубу Алисе, она, задержав его руку на своём плече, с улыбкой сказала:
– Ну и иезуит ты, Соловьёв. Кстати, иезуиты всегда принимали самое активное участие в делах инквизиции. А потом писали об этом воспоминания с оглушительными раскаяниями.
– Не понял твоего замечания, любимая.
– А что тут понимать? Сначала ты им как декан пять лет выкручивал руки, а сейчас рассыпаешься в комплиментах.
– Неправда. Я всегда старался быть студентам отцом родным.
– Ну-ну. Значит я, по твоей логике, мать родная?
– Нет, на мать ты, Алиска, не тянешь. Ты только жена отца.
– Спасибо и на этом.
Весёлые и довольные своим удачным пикированием, Алиса и Алексей отправились домой.
10.3
Самоедство у Алексея Натановича Соловьёва было от папы. Приходя домой, Натан Захарович начинал обсуждать с женой всё, что произошло у него за день на работе. Елена Степановна в основном молчала, но когда муж в порыве убедить самого себя в правильности того или иного совершённого поступка преступал, с её точки зрения, дозволенный предел, она взрывалась:
– Натан, ты можешь себе представить, чтобы я, придя домой, начинала обсуждать с тобой, правильно ли я сегодня кому-то что-то отрезала. Это была бы настоящая «дурка». Поэтому оставь меня в покое со своими производственными проблемами.
– Ты что, не хочешь, чтобы я тебе о них рассказывал?
– Нет, не хочу. Давай лучше поговорим о наших семейных делах.
После этого папа, как правило, делал обиженный вид и уходил смотреть телевизор или читать газету. Правда, через полчаса он снова возвращался на кухню и продолжал беседу с мамой как ни в чём не бывало.
Алиса, пройдя суровый курс детдомовского общежития, тоже особым терпением в разговорах с Алексеем Натановичем не отличалась и сразу заявляла мужу, чтобы он не грузил её своими институтскими проблемами. Несколько раз Алексей Натанович пытался обсудить факультетские дела с профессором Прохоровым, но тот ему, правда, очень деликатно, отказал.
Раньше, когда в деканате секретарём работала Наталия Сергеевна, Соловьёв регулярно советовался с ней. Но вот уже полгода, как она ушла на пенсию, и на её место была принята молодая женщина Ольга Владимировна Герасимова. Ольга Владимировна окончила Иркутский педагогический институт по специальности испанский язык и приехала в Норильск по месту распределения мужа. Но устроиться на работу по своему профилю не смогла и поэтому пошла работать секретарём факультета. Умная, грамотная, быстро схватывающая суть проблемы, она через короткое время стала настоящей хозяйкой в деканате. Соловьёв мог спокойно поручить ей любое дело с уверенностью, что всё будет выполнено в срок и качественно.
Заметили Ольгу Владимировну и в комитете комсомола института, а потому стали привлекать к работе со студентами. Однажды её пригласили на комсомольское бюро и поручили подготовить анкету на тему «Декан глазами студентов».
– Оля, ты всё время общаешься со студентами. Нам интересно было бы знать, какие требования они предъявляют к декану? Что им нравится в его работе, а что следует изменить или улучшить.
– Нет, этим я заниматься не буду. Нельзя в одну кучу сваливать производственную деятельность и общественную работу. Тем более за спиной у Алексея Натановича.
– Ну, зачем за спиной? Расскажи ему о нашем предложении. Послушай, что он скажет. Если ему идея понравится, составьте анкету вместе с ним, в качестве эксперимента. А если откажется, то снимем этот вопрос с рассмот¬рения вообще. Просто никто никогда таких опросов в институте не проводил, а всем ребятам будет очень интересно узнать дополнительную информацию о декане.
10.4
В конце рабочего дня Ольга Владимировна зашла в кабинет Соловьёва.
– Алексей Натанович, можно с вами поговорить?
– Пожалуйста. О чём вы хотите со мной говорить, Ольга Владимировна?
– Извините, Алексей Натанович, что я тревожу вас по не совсем обычному поводу. Дело в том, что по возрасту я ещё комсомолка.
– Я знаю год вашего рождения. Чем могу быть полезен нашему доблестному комсомолу?
– Сегодня в комитете комсомола института мне дали поручение составить анкету на тему «Декан глазами студентов». Если вам эта идея не кажется абсурдной, то я хотела бы это поручение выполнить с вашим участием.
Алексей Натанович широко улыбнулся. Видно было, что ему понравился нестандартный подход комсомольцев к факультетскому начальству
– Ну, наконец-то. Свершилось. Пришёл мой звёздный час.
– Это вы к чему, Алексей Натанович?
– Как к чему? К тому, что в результате свободного волеизъявления нашего студенчества я смогу, наконец, покинуть неуютное кресло декана.
– Ну, зачем вы так, Алексей Натанович? Никогда не думала, что это может вас обидеть.
– Шучу я, Ольга Владимировна. Шучу. На самом деле мне нравится ваше предложение. Когда я был ещё студентом, правда, уже старшего курса, мы подобную идею обсуждали дома у моих родителей с одним доцентом педагогического института. У нас было много разговоров о том, как оздоровить эту несимпатичную должность. И вот что я думаю. Когда придёт время и я уйду с этой должности, то возьму и напишу серьёзную научную работу: «Кто такой декан и что ему от студентов надо (опыт непостороннего человека)». Обещаю.
Со смехом, обмениваясь шутками, декан и секретарь факультета составили проект студенческой анкеты. Окончив обсуждение, Алексей Натанович спросил:
– А как вы, Ольга Владимировна, собираетесь использовать результаты анкетирования студентов?
– Очень просто. Мы это в комитете комсомола уже обсуждали. Так как декан избирается Учёным советом института на пять лет, то первый год его работы следует считать кандидатским. И только через год, по результатам студенческого анкетирования, окончательно утверждать кандидата в должности декана.
– А не кажется ли вам, что двухступенчатая система выборов декана добавит всем дополнительные хлопоты?
– Конечно, добавит, но эти хлопоты оправданные. Они оградят студентов от идиотов и самодуров на этой должности.
– И откуда у вас, Ольга Владимировна, такое глубокое понимание вопроса – кто может быть деканом, а кто нет?
– Из собственного опыта. У нас в институте долгое время деканом факультета была склочная и мстительная женщина. Я её запомнила на всю оставшуюся жизнь.
– Понятно. Видно, крепко вам насолила эта дама.
10.5
На следующий день Ольга Владимировна отпечатала анкету на машинке и отнесла в комитет комсомола института. После нескольких мелких замечаний членов комитета текст утвердили и поручили учебному сектору провести опрос студентов энергомеханического факультета всех курсов.
Окончательный текст анкеты выглядел следующим образом:
Внимание студентов энергомеханического факультета!
В настоящее время в нашей стране набирает силу движение за усиление органов студенческого самоуправления в высших учебных заведениях, за представительство студентов на всех административных уровнях, за возможность высказывать своё мнение при принятии решений, касающихся студенческой жизни. Особенно острыми в этом плане являются вопросы, связанные с выбором руководителя факультета.
Мы не хотим, чтобы нам навязывали результаты выборов декана, устраивающие только руководство института. Мы хотим активно участвовать в этом процессе. Для этого мы просим вас выразить своё отношение в предлагаемой анкете с перечнем требований к личности декана.
Декан, по нашему мнению, должен быть:
– профессионалом,
– умным,
– честным,
– доброжелательным,
– интеллигентным,
– современно и красиво одетым человеком.
Просьба вышеуказанные требования к декану расставить по приоритету с 1-го по 6-е.
Список вышеприведенных требований можно изменять, добавляя или исключая его отдельные пункты.
Учебный сектор комитета комсомола института
На анкету анонимно ответили более трёхсот студентов. Ничего неожиданного в ответах не оказалось. Результаты опроса были обсуждены на ком¬сомольской конференции института, и окончательный перечень требований студентов к кандидатуре декана был передан на факультет.
Ольга Владимировна решила не беспокоить декана специально, а положила итоги анкетирования в его почту. Ознакомившись с документом, Алексей Натанович пригласил Ольгу Владимировну к себе.
– Присаживайтесь, пожалуйста. Я сравнил приоритетность требований к декану по результатам опроса и наш вариант. Они почти совпадают, за исключением того, что «доброжелательность» студенты поставили на второе место.
– Вы согласны с мнением студентов, Алексей Натанович?
– В принципе – да. А вашу анкету я передам в конкурсную комиссию, которая, надеюсь, впредь будет оценивать претендентов на должность декана и в соответствии с требованиями студентов.
– Ну, вот видите, Алексей Натанович. Значит, мы не зря поработали?
– Не зря. А теперь, что касается вашего предложения ввести годичный кандидатский стаж для декана факультета. Я уже беседовал с учёным секретарём Совета, и он сразу же отверг его по двум причинам. Во-первых, существуют чёткие правила Министерства высшего образования о процедуре избрания декана факультета, которые нужно всем неукоснительно выполнять. А во-вторых, у нас не такой уж большой институт, чтобы люди не знали всё о том или ином кандидате в деканы заранее.
– И тем не менее, Алексей Натанович, вы же не будете отрицать народную мудрость: «Хочешь узнать человека – дай ему власть».
– Конечно, не буду. Но мне известна эта пословица и в другой редакции: «Хочешь узнать человека – дай ему власть и портфель. Захочешь понять его – отними у него и то, и другое».
– Я не встречала такого выражения, но в принципе они по смыслу совпадают.
– Правильно. А теперь скажите мне, пожалуйста, Ольга Владимировна: сколько времени вы работаете в институте секретарём факультета?
– Второй год.
– Немного. И, тем не менее, несмотря на ваш весьма скромный трудовой стаж, хочу с вами посоветоваться по одному вопросу. Я собираюсь ходатайствовать перед ректоратом об упразднении должности заместителя декана на нашем факультете.
– Вас что, Алексей Натанович, не устраивает Борис Васильевич Филиппов?
– Нет, не в нём дело. Хотя отчасти и в нём.
– Интересно, а главное – неожиданно. Если вас не затруднит, посвятите меня, пожалуйста, в свои соображения.
– С удовольствием. Известно, что основной структурой в вузе является деканат факультета, к которому приписаны студенты.
– Извините, Алексей Натанович, но вы о студентах как о каких-то крепостных говорите.
– Это ваш профессиональный слух филолога уловил такой смысл. Но я хотел сказать о другом. Студент – самый главный человек в институте, однако и самый занятой: обязательные занятия, факультативные, контрольные, курсовые, зачёты, экзамены и т. д. А ему ещё нужно пообщаться с друзьями, позаниматься спортом, принять участие в различных мероприятиях. Поэтому не студент должен подстраиваться под наш рабочий график, а мы под его.
– Я что-то не пойму, к чему вы клоните, Алексей Натанович?
– А к тому, что студент просто так в деканат не приходит. Это не та инстанция, которую посещают от нечего делать. Если он пришёл с вопросом, то должен получить на него ответ. А мы с заместителем декана – обыкновенные совместители. Бываем в деканате набегами, в свободное от основной работы время. Причём нам действительно всегда некогда.
– Всё равно не понимаю, о чём вы? Я же всегда на своём месте. И вообще, студент может придти в другое время. Можно, в конце концов, указать часы приёма декана?
– Нет. Это уже совсем никуда не годится. Декан всегда и всем нужен в режиме реального времени. Это самая хлопотная, но и самая необходимая студенту должность в институте. Поэтому он запоминает своего декана на всю жизнь. Если, конечно, есть что запомнить.
— И что вы предлагаете, Алексей Натанович? Я что-то не совсем понимаю.
— Упразднить должность заместителя декана и ввести на факультете должность методиста, но это ещё нужно хорошо обдумать.
10.6
Прочитав лекцию студентам третьего курса последней парой, Алексей Натанович собрался идти домой. Было уже половина седьмого вечера. Но привычка смотреть перед уходом почту, которую ему оставляла в конце рабочего дня секретарь, задержала его в кабинете. Через несколько минут раздался тихий стук в дверь, и в кабинет вошла секретарь ректора Лиза.
– Извините, Алексей Натанович, за беспокойство. Ректор просил передать вам этот конверт прямо в руки. Так как вы были на лекции, я не могла сделать этого раньше.
В запечатанном конверте было короткое, в полстраницы стандартного листа, письмо на имя ректора Тихомирова от Софии Александровны Добеску, матери студента первого курса энергомеханического факультета. В письме она просила принять меры по отношению к тем, кто «поставил своей целью изжить её сына Максима из института». Угроза отчисления студента Добеску была связана с тем, что в зимнюю сессию он дважды получил неудовлетворительную оценку по начертательной геометрии.
Ситуация в принципе рядовая: неуспевающий студент жалуется родителям на преподавателя, и те обращаются по этому поводу в ректорат. Однако, по мнению Софии Александровны, причиной не сдачи сыном экзамена является то обстоятельство, что он по национальности молдаванин. Об этом сказала ему преподаватель, когда он завалил экзамен в последний раз. Письмо было зарегистрировано в канцелярии института, и на нём значилась резолюция ректора: «Декану Соловьёву А. Н. Разобраться и доложить».
Кафедра начертательной геометрии была не на его факультете, поэтому Алексей Натанович мог просто ограничиться поручением заведующему кафедрой создать комиссию и решить проблему в установленном порядке. Но интуиция подсказывала ему, что в случае со студентом Добеску не следует идти традиционным путём. Ведь не зря ректор направил ему письмо не по внутренней почте, где посторонние люди могли его прочитать, а передал через своего секретаря в запечатанном конверте. По всей видимости, национальный вопрос, даже косвенно прозвучавший в жалобе родителей, ректор считал целесообразным обсуждать вместе с причиной неуспеваемости студента.
Открыв расписание занятий факультета, Алексей Натанович выяснил, что начертательную геометрию в группе студента Добеску ведёт старший преподаватель Раиса Кирилловна Глебова. Серьёзный, грамотный педагог. Трудно себе представить, что она могла так обидеть студента. И тем не менее Алексей Натанович решил пригласить Раису Кирилловну к себе на беседу.
Идя домой, Алексей Натанович почему-то вспомнил интересный разговор на тему национальностей, который вышел у него с одним бывшим заклю¬чённым несколько лет назад. А дело было так. Вместе с Ильёй Золотым он пошел покупать по объявлению диван. Приобретение мебели в Норильске всегда составляло большую проблему, поэтому найти диван, хотя бы с рук, было несомненной удачей. Продавец, назвавшийся Володей, судя по наколкам на обе¬их руках, был человеком бывалым. Назвав цену, он предупредил, что она окончательная и торговаться не стоит. Получив деньги, Володя помог Алексею и Илье спустить диван с четвёртого этажа и погрузить в кузов грузовой машины. Дело оказалось не простым, так как из-за узости лестничных пролётов в некоторых местах диван приходилось поднимать выше перил и нести на вытянутых руках. Но когда Алексей с Ильёй уже собирались сесть в машину, Володя их остановил.
– Нет, ребята. У нас так не положено. Надо сейчас всем подняться в хату и обмыть покупку. И ты тоже, – обратился он к водителю, который в погрузке дивана вообще участия не принимал.
– Извини, друг, но мы спешим. Да и как оставишь в открытом грузовике диван? Его же сопрут сразу, – ответил водитель.
– Вот за это ты не беспокойся. В моём доме такого быть не может. Это тебе Володя сказал.
Бывший хозяин дивана никого уговаривать не стал, а просто развернулся и пошёл к себе домой. Остальные поняли, что отказываться бесполезно. Вообще, складывалось впечатление, что Володя не столько хотел продать диван, сколько выпить по поводу состоявшейся сделки.
Комната, после того как из нее вынесли диван, казалась совершенно пустой. Обшарпанный стол без скатерти, стоявший в центре, только усиливал убогость обстановки. Оживившись в предвкушении выпивки, Володя быстро выложил на стол батон отдельной колбасы, порубав её на большие куски. Достал из холодильника бутылку водки, а из шкафа – четыре гранёных стакана. После этого, аккуратно разлив водку по полстакана каждому и выдавив на лице подобие улыбки, громко произнёс:
– За покупку!
С благостным выражением лица, медленно и аккуратно вылив содержимое стакана себе в горло, вдруг вскочил со стула и заорал:
– А как же это мы без хлеба? Вот идиот!
Он полез в шкаф и выложил на стол буханку чёрного хлеба.
– А порезать? – заметил Илья.
– Зачем? Хлеб нужно отщипывать, чтобы почувствовать его вкус и тепло, а не резать. И вообще, почему не все выпили? – обратил он внимание на стакан, стоящий перед водителем.
– Так я же за рулём, – возразил тот.
– Все за рулём. На севере не пить нельзя. Это противоестественно. Я в Норильске с 1944 года. Из Белоруссии сюда попал. Десяточку дали мне за партизанскую молодость. Весь лагерный срок прокрутил баранку самосвала на угольном карьере и всегда перед сменой принимал на грудь. Так что будешь мне тут напевать – я за рулём.
10.7
Володя трезвый и Володя выпивший – это были два разных Володи. Трезвым он практически всё время молчал, зато выпив, почти не закрывал рта. При этом успевал, без лишней суеты, хлопотать за столом: разливал водку, приносил из кухни закуски. Перед гостями неожиданно появились солёные огурчики, сало, несколько крупных луковиц. А через некоторое время, никого не спрашивая, Володя незаметно поменял пустую бутылку водки на полную и продолжал говорить.
– Ну, так вот, – снова обратился он к водителю, который так и сидел перед своим нетронутым стаканом водки. – На карьере работы, как известно, идут круглосуточно. В три смены. А зимой, в полярную ночь, вообще разницы нет, какая смена. Всё равно круглый день темно. Управлять тяжёлым карьерным самосвалом, высотой с двухэтажный дом, в пургу, туман, с обледенелыми стёклами – это, брат, очень непростое дело.
Рассказ свой Володя пересыпал сочным матом. Говорил не совсем связно, но увлекательно и бесстрашно, как будто держал ответ за свою прожитую жизнь. Никто его не перебивал и не задавал вопросов, пока он сам вдруг не остановился – как будто горло ему перехватило.
– Скажи, Володя, – воспользовавшись паузой, спросил Алексей, – а как на карьере в полярную ночь проводились буровзрывные работы и вывоз добытой породы? Ведь для этого карьер должен быть хорошо освещён. Да и персонал нужен грамотный.
– Молодец, хороший вопрос. В карьере, на монтаже и демонтаже карьерных электрических сетей, работали только крымские татары. На время взрывных работ деревянные опоры и электрические провода они убирали, а после взрыва всё быстро восстанавливали. Маленькие, ловкие, трудолюбивые, они работали – одно загляденье.
– А откуда татары взялись на Крайнем Севере?
– Во время войны в Норильск приходило много этапов со спецпереселенцами – ингуши, чеченцы, поволжские немцы, крымские татары. Им советская власть винтовку доверить не могла. Только лом и лопату. Поэтому их и отправляли на верную гибель на Север. А однажды крымские татары мне жизнь спасли.
– Как это было? Можешь рассказать?
– Могу, но для этого нужно выпить.
– Нет, Володя. Нам хватит. Пей один.
– Вот что значит люди на зоне не были. Бывший зэк никогда не скажет: «Мне хватит». Если есть водка, её следует пить. Ну да ладно, как хотите.
Володя налил себе, как отмерил, еще полстакана и виртуозно вылил водку в горло. Все с интересом наблюдали за этим процессом.
– Вы сейчас сидите и думаете: ну и алкоголик этот Володя. А я вам скажу – водку надо пить вкусно, с удовольствием на лице. Ни в коем случае не морщиться и не делать противную гримасу. Тогда водка пойдёт человеку на пользу, и будет у него праздник на душе. Ведь недаром в старину уважительно говорили «извольте откушать», а не «извольте нажраться». Вот так.
Володя аккуратно подцепил кусок колбасы и стал задумчиво его жевать. Все молча ждали продолжения рассказа. Но Володя почему-то не спешил, тыча вилкой в пустую тарелку. То ли настраивался, то ли заново переживал прошлое.
– Было это 17 ноября 1947 года. Я работал в ночную смену и запомнил этот день на всю жизнь, так как, по-хорошему, второй раз родился. Мело крепко, и ветер был сильный. В общем, погода жуткая. Карьер освещался хорошо – прожектора сильные, но были и «слепые» участки дороги, куда прожектора не доставали. Ну, так вот. Еду я гружёный с горы и вдруг чувствую, что потерял дорогу правым передним колесом. Остановился, попытался немного сдать назад, а меня ещё больше занесло. Сижу в машине и не знаю, что делать. Любой вариант плох: выйти из кабины – машина может потерять центровку и уйти вниз, а карьер-то глубокий. Оставаться в машине – неизвестно когда и чем это закончится. И тут я вижу, с высоты своего самосвала, что вокруг машины бегают какие-то маленькие человечки. Пара из них взобралась на лестницу, которая в кабину ведет, несколько человечков прилепилось к бамперу, а все остальные собрались у заднего правого колеса. Я по их команде двигатель машины выключил, и они осторожно так начали толкать мой громадный самосвал назад на откатанную дорогу. Всё это продолжалось минут двадцать, не больше, а мне показалось – вечность. Когда я из кабины вылез, бледный как полотно, они давай меня качать. Человек сорок их было. Радостные, возбуждённые, и кричат что-то на непонятном языке.
10.8
Все сидели молча, переживая рассказ Володи, а он, довольный произведённым впечатлением, никому больше ничего не предлагая, налил себе очередные полстакана водки и так же артистически выпил.
– А нам всегда в школе говорили, что крымские татары — враги, – ни к кому не обращаясь, сказал вдруг Илья.
– Не знаю, что вам там говорили в школе, но для меня они друзья до гроба. Мы и по сегодняшний день общаемся. Кое-кому из них я помогал в нашем техникуме учиться. Я же еще в 1940 году Могилёвский учительский институт окончил, по специальности математика. Началась война – меня забрали в армию. Потом попал в плен. Бежал, партизанил. А когда погнали немцев, вернулся в свой городишко. Там на меня сосед, тоже белорус, и настучал. Получил я за свои ратные подвиги, как уже говорил, десять лет. В 1954 году вышел из лагеря, а ехать с Севера некуда. Вот и живу здесь с женой.
– Вы сказали, что на монтаже электрических сетей в карьере работали только татары? А что, в лагере заключённые собирались в группы по национальному признаку? – поинтересовался Илья.
– Нет, конечно, – ответил Володя. – На этом карьере просто так получилось. Один устроился на работу и потащил за собой своих земляков. А вообще, на зоне были заключённые более 70 национальностей. Даже не знаешь, кто есть кто. Для меня, в принципе, национальность никогда не имела особого значения. Я вам по этому поводу притчу расскажу, которую мне в лагере кто-то наболтал. Известно, что Бог сначала создал один народ. Все люди были одинаковые и говорили на одном языке. Население росло, а жить становилась всё сложнее. Стали люди роптать на Бога, обвиняя его во всех своих бедах. Богу это не понравилось, и тогда он сделал всех людей разными, а главное, дал каждому народу свой язык. После этого они перестали обвинять Бога и начали выяснять отношения между собой. Так продолжается и до сегодняшнего дня. Всё.
Володя громко расхохотался, и от его заразительного смеха не устояли и все сидящие за столом.
– Ну что? Как вам моя байка? За это надо всем выпить, – радостно потирая руки, предложил он.
– Нет, нам хватит, – решительно отказался Алексей. – Ещё диван домой тащить. Ты лучше скажи, а как на зоне всё-таки решался национальный вопрос?
– Не знаю. По мне такого вопроса вообще нет. Хороший человек – просто хороший человек. А дерьмо национальности не имеет. В особенности после 1948 года, когда нас всех, политических заключённых, загнали внутри зоны в каторжную тюрьму. Единственное, что могу по этому поводу сказать: люди в лагерных условиях выбирали себе, по закону самосохранения, маленький надёжный круг общения. Это правда. С учётом, естественно, языка, обычаев, праздников, еды, знакомых и т. д. Я уж не говорю о том, что всегда легче сообща отбиться от всякого беспредела, которого на зоне хватало. Кто тебе ещё в трудную минуту поможет, как не человек, который говорит и думает с тобой на одном языке.
Володя потянулся за папиросой, не спеша чиркнул спичкой и продолжил.
– Тюрьма – это серьёзная школа. Она, конечно, отбирает у человека здоровье, годы жизни, но и многому учит. Там всякие люди сидят: кто за дело попал за решётку, а кого судьба замела. Но зона сама выносит приговор каждому, независимо от статьи, по которой сидит. Сама ему указывает на место в жизни. Чтобы выжить в тюрьме, нужно уважать себя и почитать других. Стараться соблюдать свою честь и блюсти тюремные законы. И ещё. Я же видел, как вы на меня поначалу смотрели. Не то что с брезгливостью, но так – не нашего-де поля ягода. Так вот вам мой совет, ребята. Ведите себя в Норильске аккуратно. Город непростой. Неизвестно, что за человек перед вами. Как здесь оказался, какое у него прошлое, чем занимается. А вообще, будут вопросы – обращайтесь. Чем смогу – помогу.
И Володя широко и по-доброму улыбнулся.
10.9
Старшего преподавателя кафедры начертательной геометрии Раису Кирилловну Глебову Алексей Натанович пригласил к себе на следующий день после получения письма от ректора. Перед встречей ещё раз внимательно перечитал письмо.
– Проходите, Раиса Кирилловна. Присаживайтесь, пожалуйста. Я пригласил вас к себе, чтобы посоветоваться по одному деликатному вопросу. Дело в том, что ректор передал мне жалобу родителей студента Добеску, которому вы два раза выставили неудовлетворительную оценку, и попросил с этой жалобой разобраться. Я решил поговорить, прежде всего, с вами – как ведущим преподавателем, а потом уже посылать её для рассмотрения на кафедру.
– Очень хорошо, что вы так сделали, Алексей Натанович, потому что эта женщина уже приходила в институт и говорила со мной по поводу сына.
– И о чём был разговор?
– Естественно, о несданном экзамене. Дело в том, что у студента Добеску полностью отсутствует пространственное мышление. Он даже не понимает, что такое проекция. Мать умоляла, чтобы я поставила сыну троечку с двумя минусами – как в школе, честное слово, – а потом, дескать, он всё догонит.
– Может быть, вы о чем-то спрашивали ее, Раиса Кирилловна?
– Спросила только, где её сын оканчивал среднюю школу. А она почему-то обиделась, тут же встала и ушла. Кстати, её сын неплохо поёт. Я слышала его выступление на вечере самодеятельной песни во Дворце культуры комбината. Можно даже сказать, уникальный голос у парня.
Они еще немного поговорили. Раиса Кирилловна убедительно объяснила декану, что студенту Добеску не удастся сдать экзамен по начертательной геометрии никакой комиссии. Потом разговор незаметно перешел на её собствен¬ных детей и Алексей Натанович узнал, что старший сын Раисы Кирилловны увлекается математикой, а младший хорошо рисует. И что вообще, детьми нужно постоянно и серьёзно заниматься. Тогда из них выйдет толк. А иначе — не на что рассчитывать.
Под конец разговора Алексей Натанович не очень вникал в то, что говорила Раиса Кирилловна. Он понял главное – что толкнуло мать студента Добеску написать жалобу ректору. Её глубоко задел вопрос преподавателя, касающийся того, что сын окончил молдавскую школу и при такой слабой подготовке по техническому черчению претендует на получение специальности инженера-механика.
– Спасибо, Раиса Кирилловна, за ваши пояснения. Я обязательно приму их к сведению при принятии окончательного решения.
Старший преподаватель Глебова ушла, а Алексей Натанович продолжал размышлять, глядя на письмо, лежащее перед ним. Через какое-то время он вызвал к себе Ольгу Владимировну и попросил пригласить к нему на субботу в три часа мать студента Добеску.
10.10
В назначенное время в дверь кабинета декана постучали и Соловьёв увидел на пороге немолодую усталую женщину.
– Входите, пожалуйста. Присаживайтесь. Вы, как я понимаю, Софья Александровна Добеску?
– Правильно.
– Простите, Софья Александровна, если я нарушил ваши планы на субботу, пригласив вас к себе на беседу.
– Нет, ну что вы. Ничего не нарушили, – несколько смутившись, ответила женщина.
– Очень хорошо. А где ваш сын Максим?
– Он в приёмной сидит. Стесняется к вам заходить. Мы вообще с сыном люди простые. Я работаю крановщицей на стройке. Сына ращу одна.
– Понятно. Ну, если будет нужно, мы его позовём. Итак, Софья Александровна, расскажите, пожалуйста, что вас заставило написать письмо ректору института?
Алексей Натанович приготовился слушать обвинительную речь простого рабочего человека, который изо всех сил стремится дать единственному сыну высшее образование, а натыкается на всяческие проблемы. Но ничего подобного не произошло. Вперемежку со слезами Софья Александровна начала жаловаться декану на свою тяжёлую жизнь. Весь день на работе. А ещё ни на что не хватает денег. И сейчас она должна распрощаться с мечтой увидеть своего сына инженером.
Улучив момент, когда Софья Александровна доставала из сумочки носовой платок, Алексей Натанович заметил:
– Софья Александровна, вы зря так расстраиваетесь. У вас хороший мальчик. Мы недавно говорили о нём со старшим преподавателем Глебовой, которая поставила вашему сыну двойку по начертательной геометрии. Нет у Максима склонностей к техническим наукам, но это же не конец света. Вот Раиса Кирилловна отметила, что у него редкий голос. Она его слышала на каком-то концерте во Дворце культуры комбината.
– Правда? Спасибо вам большое.
– А хотите, Софья Александровна, я договорюсь, чтобы Максима прослушали в Норильском музыкальном училище? Не исключено, что он станет знаменитым певцом, и еще весь Норильск будет им гордиться.
Алексей Натанович тепло попрощался с мамой студента Добеску. Она не только забрала своё письмо на имя ректора, но и написала расписку о том, что претензий к Норильскому технологическому институту не имеет. Максим Добеску был отчислен из института по собственному желанию и начал учиться на вокальном отделении Норильского музыкального училища. Успешно окончив училище, он впоследствии был принят в оперную труппу одного из ведущих театров Сибири.
10.11
На следующий день декан Соловьёв написал ректору института Тихомирову служебную записку, в которой последовательно изложил свои действия по рассмотрению жалобы матери студента Добеску. А затем, вместе с самой жалобой и распиской заявительницы, отнёс всё в канцелярию института. Инцидент со студентом Добеску Алексей Натанович включил и в своё выс¬тупление на очередном открытом партийном собрании, посвящённом учебно-воспита¬тельной работе на факультете. Каким образом об этом узнала городская газета Норильска, он не знал, но через два дня в институт пришёл корреспондент, чтобы взять у декана Соловьёва интервью.
– Скажите, Алексей Натанович, и часто родители студентов стараются решать с вами проблемы своих детей? – задал корреспондент провокационный вопрос декану.
– На младших курсах достаточно часто.
– Чем вы это объясняете?
– Инерцией родительского мышления на определённом отрезке времени и инфантильностью их детей.
– А вы как декан разделяете позицию родителей?
– Отчасти, да. Дело в том, что студенты первого курса в принципе ещё ничем не отличаются от тех мальчишек и девчонок, которые год назад ходили в школу: те же разговоры, те же шуточки, то же дурачество. Правда, сами они считают, что, поступив в институт, сразу стали взрослыми людьми. Никто не звонит домой и не интересуется, почему пропустил занятия. Не задают каждый день уроки на дом и не требуют их выполнения. Даже собственные деньги в виде стипендии завелись.
– Получается, что так оно и есть.
– К сожалению, нет. Эта взрослость, на самом деле, очень обманчива. Студенты первого курса ещё не знают, как учиться в институте. Они просто не ориентируются в новых для них условиях. Запутавшись в текущих проблемах, некоторые из них уже после первой сессии отчисляются из института.
– И что вы делаете, чтобы минимизировать потери контингента?
– Ишь какой серьёзный вопрос вы мне задали! Но я отвечу вам тем же – осуществляем индивидуальный подход к каждому студенту.
– А можно человеческим языком?
– Можно. Распоряжением по факультету прикрепляем к каждой группе студентов первого курса куратора. Куратор обязан знать всё о своих студентах.
– В каком смысле всё?
– В прямом. Где живёт, телефон родителей домашний и рабочий, что за семья, какие особенности у студента, чем любит заниматься. Мы его приняли в институт не для того, чтобы сразу потерять. Нет таких ребят, которые не могут учиться в институте, если поступили. Только ими нужно серьёзно заниматься.
– Так это получается повторением школы?
– Нет, это далеко не школа. Куратор, если можно так выразиться, является на первых порах для бывшего школьника поводырём. Он ему помогает разобраться в новой жизни, подсказывает, что делать и как поступить в той или иной затруднительной ситуации. А студент сам должен делать шаги в нужном направлении.
– Очень интересно. А куратор тоже кому-то подконтролен?
– Обязательно. Во-первых, на факультете есть заместитель декана по воспитательной работе, а во-вторых, раз в месяц я сам провожу явочную планёрку кураторов и беседую с каждым из них в отдельности.
– Но это же огромная дополнительная нагрузка.
– Ну, не такая уж и огромная. И, кроме того, это не нагрузка, а наша прямая преподавательская работа. Просто её нужно выполнять добросовестно. Студентов вообще нужно любить, а плохих – прогульщиков и двоечников – особенно. Они гораздо интереснее и более искренни в своих поступках.
– А есть преподаватели, которые не любят студентов?
– К сожалению, есть. Им, я считаю, в институте делать нечего. Они должны работать в другом месте.
– Скажите, Алексей Натанович, отличаются ли студенты вашего института от студентов с «материка»?
– Отличаются, и весьма существенно. Все они живут дома. У нас нет студенческих общежитий. О них постоянно заботятся близкие: кормят, поят, одевают. Не важно, на первом курсе учится молодой человек, или на пятом. Таким образом, нашим студентам не нужно отвлекаться от учёбы и искать каких-либо заработков на стороне.
– Хорошо, со студентами всё более или менее понятно. А как обстоят дела с преподавателями?
– А что с преподавателями?
– Преподаватели такие же, как на «материке», или другие?
– Наши преподаватели лучше, чем на материке.
– Вы шутите, Алексей Натанович?
– Нет, не шучу. Ординарных преподавателей в Норильском институте, по определению, нет. Это Крайний Север. Сюда люди едут или от большого отчаяния, или от большого желания.
– Понятно. А как эти неординарные преподаватели должны вести себя со студентами?
– На равных, не стараясь подчёркивать своё превосходство. Авторитет преподавателя от этого не пострадает, но зато он приобретёт среди студентов немало единомышленников. И потом следует всегда помнить: студент нужен преподавателю не меньше, чем преподаватель студенту.
– Последний вопрос, Алексей Натанович. В чём вы видите свою основную задачу как декан?
– Прекрасный вопрос. В том, чтобы студенту в нашем институте было всегда интересно. Когда студент в сорокаградусный мороз, полярную ночь и сумасшедший, сбивающий с ног ветер, приходит в институт – я считаю, что это большая награда за наш скромный труд.
– Спасибо вам за беседу, Алексей Натанович.
– Не стоит благодарностей. Всего хорошего.
10.12
Проректор Козлов позвонил Соловьёву в большой перерыв. Обычно ректорат старался этого не делать, так как во время перерыва студенты идут в деканат сплошным потоком и отвлекать декана от работы не следует. Но Козлов даже не попросил, а потребовал декана сейчас же явиться к нему. Не успел Алексей Натановича зайти в кабинет проректора, как тот с порога обрушился на него:
– Алексей Натанович, это что за листовки? Что за анкеты? У нас институт или броненосец «Потёмкин»? Вы знаете, что творится у вас на факультете? Сегодня студенты с упоением обсуждают кандидатуру декана, а завтра за ректора примутся?
– Я знаю, Семён Владимирович, о чём идёт речь, и не вижу в этой анкете ничего плохого.
– Так это, оказывается, под вашим патронажем всё происходит? Вы что, решили заработать таким образом дешёвый авторитет у студентов? Играете в своего парня?
– Ну, во-первых, авторитет не бывает дешёвым или дорогим. Он или есть у человека, или его нет. А во-вторых, я по положению должен быть для студентов своим парнем.
– Вы, Алексей Натанович, ещё умничать здесь будете? Кстати, сколько вам лет осталось до переизбрания деканом?
– Полтора года.
– Смотрите, они могут оказаться для вас последними в этой должности.
– Не буду возражать, если вы откажете мне в доверии. Хоть появится время заняться докторской диссертацией. Я могу идти?
– Идите. И проследите, чтобы весь этот бумажный мусор студенты за собой убрали.
Алексей Натанович вышел от проректора, в принципе понимая причину этого странного разговора. Козлов просто выместил на нём свою злость. А настроение проректору могла испортить только очередная стычка с ректором. Отношения между ними накалились до предела. Истинную подоплёку конфликта Соловьёв не знал, но догадывался, что ректор поставил себе целью убрать Козлова. Раньше ректор и проректор ругались между собой без свидетелей, но в последнее время уже не стеснялись говорить друг с другом на повышенных тонах в присутствии подчинённых.
Работая много лет в должности декана, Алексей Натанович всегда находился в тесном контакте с ректоратом. Со всеми у него были нормальные деловые отношения. Он всегда придерживался правила: если можно решить вопрос самому, нужно делать это без участия начальства. Сложившаяся ситуация конфронтации между ректором и проректором была ему совершенно не нужна – неизвестно ещё, кто придёт на место каждого из них. Ректор Тихомиров, в силу своей открытости и демократического стиля руководства институтом, ему больше импонировал, чем проректор Козлов. В тоже время последний, в силу своего огромного опыта работы, мог найти решение практически любой проблемы, возникшей в учебном процессе. А что касается тяжёлого характера Козлова, то к этому Соловьёв уже давно привык.
10.13
Год назад Алексей Натанович решил изменить планировку деканата. Раньше в свой кабинет он должен был проходить через приёмную, в которой сидели методист факультета и секретарь. А сейчас вход в кабинет сделали ему прямо из коридора. Это было вызвано несколькими соображениями. Во-первых, из-за большого количества студентов, которые собирались в приёмной между парами, никому нельзя было спокойно пройти в кабинет декана. А во-вторых, новый секретарь факультета, милая девочка Лена, была дочерью преподавательницы с кафедры иностранных языков, и вся информация – кто и когда приходил к декану – регулярно становилась известной всему институту.
Сегодня Алексей Натанович был несколько часов на заседании методического совета института, а когда вернулся, в коридоре около кабинета его ожидала студентка Света Соколова. Приветливая, приятной внешности, но, судя по тому, что Алексей Натанович знал ее имя, успеваемость студентки оставляла желать лучшего.
– Извините, Алексей Натанович, за беспокойство. Можно мне с вами поговорить?
– Заходите, Света. Присаживайтесь. Что у вас за проблемы?
– Даже не знаю, с чего начать. Мне так стыдно.
Казалось, что девушка находится в состоянии, близком к истерике и на разговор с деканом решилась с большим трудом.
– Вы успокойтесь, – подбодрил ее Алексей Натанович, – а то у нас с вами разговора не получится.
– Сегодня у нас был экзамен по высшей математике и я попала в жуткую ситуацию. Не знаю, что мне делать.
Света протянула декану раскрытую зачётную книжку и снова замолчала. Алексей Натанович взял зачетку и увидел, что в конце строки «Высшая математика» нет оценки и подписи преподавателя.
– Так что же случилось с вами на экзамене?
– Доцент Поздняков не поставил мне оценку в зачётке. Он сказал, что сделает это у себя дома за чашкой чая. Назвал свой адрес и время, когда я должна к нему придти.
– И что вы ему ответили?
– Ничего. Взяла зачётку и ушла.
– Скажите, Света, вы больше никому об этом, кроме меня, не рассказывали?
– Нет. Я решила сначала поговорить с вами. А что, я неправильно сделала?
– Нет, вы всё правильно сделали. Хотите написать заявление?
– Нет, не хочу.
– Хорошо. Тогда давайте договоримся так. Завтра Александр Васильевич Поздняков должен представить в деканат экзаменационную ведомость. В зависимости от того, что там будет стоять в графе с вашей фамилией, мы продолжим разговор тем или иным образом. Зайдите ко мне после четырёх часов дня. Только не надо об этом больше никому говорить.
10.14
Соловьёв продолжал заниматься своими делами, но разговор со студенткой Соколовой не выходил у него из головы. До него доходили разные слухи о взаимоотношениях преподавателей и студенток, но чтобы имел место откровенный сексуальный шантаж – такого в Норильском институте ещё не было. Поначалу, разговаривая с Соколовой, Алексей Натанович не очень обеспокоился – мало ли чего на факультете не происходит: огромный коллектив, молодые люди, неконтролируемые эмоции… Но спустя какое-то время он крепко задумался. Жалоба студентки Соколовой перестала казаться ему такой уж простой и безобидной.
Александр Васильевич Поздняков, симпатичный холостяк лет тридцати пяти, имел среди студентов кличку «Родной». Прилепилась она к нему из-за того, что он сам обращался так к своим студентам, причем звучало это из его уст без всякой иронии, а вполне по-доброму. Никто на него за это никогда не обижался. На корпоративных вечеринках Александр Васильевич активно ухаживал за женщинами, и те отвечали ему взаимностью.
Ситуация, о которой рассказала студентка Соколова, была для Алексея Натановича в новинку, и он откровенно терялся, как ему поступить. Уставившись в стену своего кабинета, где висела картина Шишкина «Утро в сосновом лесу», он пытался осмыслить все возможные варианты. Не исключено, что Поздняков хотел таким неуклюжим образом заманить девушку к себе домой и, в зависимости от «результата» встречи, поставить оценку. Но он должен был принять во внимание и тот вариант, что Соколова не захочет идти к нему в гости. В связи с этим — какие здесь могут быть завтра сценарии? Их два. Первый – в экзаменационной ведомости будет стоять оценка «неуд». И что? Все претензии к Позднякову без письменного заявления студентки не стоят ломаного гроша. Даже если Соколова повторно сдаст экзамен комиссии, Поздняков всегда может отказаться от предъявленных ему обвинений. Второй – в экзаменационной ведомости стоит положительная оценка. Тогда достоверность того, что рассказала ему сегодня Соколова, вообще ставится под сомнение. Какой же выход из ситуации? Только ждать. Человек с подобными наклонностями должен рано или поздно снова себя проявить. Других вариантов нет.
На следующий день в деканате появилась ведомость результатов экзамена по высшей математике, где против фамилии студентки Соколовой стоял «неуд». Света пришла к декану ровно в четыре часа. Бледная, с чёрными кругами под глазами, она была очень взволнована.
– Должен вас огорчить, Света. Вы не сдали экзамен доценту Позднякову.
– Значит, вы мне не верите? – с дрожью в голосе спросила Соколова.
– Почему не верю? Не имею основания не верить. Но я посмотрел вашу успеваемость за предыдущие семестры, и ситуация складывается пока не в вашу пользу. Даже если вы напишите сейчас заявление, будет много грязи, но доказать ничего не сможете.
– Какой же у меня выход?
– Выход простой – пересдать экзамен по высшей математике комиссии. Я напишу об этом на вашем направлении. И ждём следующего эпизода. Но, как я вас предупреждал, об этом никому не слова.
Соколова пересдала экзамен комиссии с оценкой «удовлетворительно», а попытки доцента Позднякова принять экзамен у кого-либо из студенток в «неформальной обстановке» в течение учебного года больше не повторялись.
10.15
Профессор Прохоров выполнил своё обещание познакомить Соловьёва со своими друзьями в тундре. Так как Алексей Натанович давно не появлялся на кафедре, Прохоров решил зайти к нему в деканат сам.
– Здравствуйте, Алексей Натанович, разрешите войти.
– Заходите, Владимир Петрович. Рад вас видеть. Как ваше здоровье?
– Не жалуюсь, благодаря регулярному общению с природой. Вот пришёл пригласить вас в воскресенье поехать со мной к Боливару… ой, я хотел сказать к Воронову.
– А как мы будем добираться?
– Утром выедем на моём снегоходе, а вечером в тот же день вернёмся. Согласны?
– С удовольствием.
Уговаривать жену Алексею Натановичу не пришлось – Алиса сама неоднократно советовала ему устроить себе полноценный день отдыха. Она замечала, что Соловьёв в последнее время страшно устал – от скандалов, кляузных писем, ненужных разбирательств. От докторской диссертации, которая совсем не двигается. Плюс ко всему, когда муж возвращался с работы, ему не давал покоя их подрастающий сын.
– Поезжай, Лёша, отдохни, а главное, отвлекись от всех дел. Я как-нибудь сама со всем справлюсь. А если нет, Витя мне поможет. Всё-таки девять лет уже, совсем мужик.
В назначенное время, с рюкзаком за плечами, Соловьёв ждал Прохорова на выезде из города. Устроившись за спиной Владимира Петровича, Алексей Натанович ощутил мощный поток встречного воздуха. Пришлось натянуть на лицо до самых очков шерстяной шарф. Ехали молча, не мешая друг другу лишними разговорами. Примерно через два часа за деревьями показалось несколько строений. Владимир Петрович сбросил газ и плавно подрулил к крыльцу дома.
– Приехали, Алексей Натанович. Слезайте. Я не очень вас утомил?
– Что вы, Владимир Петрович? Всё прекрасно.
Как обычно, заслышав шум двигателя, все обитатели зимовья вышли встречать гостей.
– Знакомьтесь, это мой начальник – декан факультета Алексей Натанович Соловьёв.
– Скорей ученик, чем начальник, – с улыбкой возразил Соловьёв, здороваясь со всеми по очереди. – Какая тут у вас красота. И тишина, хоть пей.
– Заходите, раздевайтесь, – обратилась к гостям миловидная женщина. – Садитесь, куда хотите. Давайте поближе к печке. Меня зовут Адель. А это хозяева дома: Александр Николаевич Воронов и Николай Семёнов.
– А кто из них Боливар?
– Александр Николаевич, – ответил за Адель Семёнов. Все дружно захохотали, а Воронов погрозил Николаю пальцем.
10.16
Все заняли, как показалось Соловьёву, свои любимые места: Александр Николаевич и Адель сели за стол, Владимир Петрович удобно расположился в кресле. Правда, Николай, что-то буркнув, ушёл в другую комнату.
– А мы знали, что Владимир Петрович привезёт вас сегодня. Он сказал, что вы серьёзный учёный, – начал разговор Александр Николаевич.
– Кто, я? Это он серьёзный учёный, – повернулся к Прохорову Алексей Натанович. – Владимир Петрович, ну что вы, в самом деле, такую рекламу мне сделали. Неудобно даже.
– Ладно, ладно. Не скромничайте. Это же вы защищали диссертацию в лучшем инженерном вузе страны.
– А что это за вуз? – поинтересовался Александр Николаевич.
– Московское высшее техническое училище имени Баумана.
– Понятно. А я заканчивал в 1938 году Ленинградский политехнический институт. По специальности «Гидросооружения», – отрекомендовался Воронов. – Поступал туда, чтобы скрыть своё «контрреволюционное прошлое». Благо, на эту специальность брали всех без разбора.
– Александр Николаевич умалчивает, что он окончил ещё и привилегированный лицей в Париже, – вошла в разговор Адель. – А по совокупности знаний этот лицей не уступает хорошему университету.
– Алексей Натанович, судя по отчеству, вы еврей? – неожиданно спросил Воронов.
– Да, еврей. Папа у меня еврей, а мама русская.
– Вы не обижайтесь на мою бесцеремонность. Почему спросил – когда я учился в четвёртом классе лицея, очень тяжело заболел мой дядя, на котором держался весь дом в Париже. Пригласили к нему известного в городе врача. Врач выписал рецепт, и меня послали в аптеку за лекарством. Местный провизор посмотрел рецепт, задал мне несколько вопросов, а потом сказал: «Это лекарство вашему больному не поможет. Я к нему через два часа сам приду». Пришёл и оставался у постели дяди, пока ему не стало легче. Я на всю жизнь запомнил имя и отчество этого человека – Исаак Натанович.
– Интересное совпадение, – кивнул Соловьёв. – Но я в этом мало разбираюсь. Скажу только одно: для меня примером во всём и абсолютным авторитетом являлся и является мой папа. Я и национальность в паспорте записал «еврей», чтобы быть на него похожим. Это мой сознательный выбор. Вот и вся история. Впрочем, быть честным и порядочным человеком может любой человек, независимо от того, что у него указано в графе национальность.
– А ещё дети в вашей семье есть? – спросила Адель.
– Есть. Трое. И все записаны «русские». По маме.
– Я глубоко не вникал в эту тему, но, как меня учили в парижском лицее, для Творца все народы на земле – его дети, – продолжал рассуждать Воронов. – Однако связь с собой он поручил осуществлять именно евреям. К сожалению, евреи всегда жили, да и сейчас живут, ощетинившись на своё окружение. Это всем, и прежде всего им самим, омрачает жизнь.
– Отношение евреев к другим народам возвращается евреям бумерангом, – снова подключилась к разговору Адель. – Весь мир знает, что у евреев сильная армия и серьёзное превосходство во многих областях науки и техники. Но и противники евреев, в ситуации ненависти и страха, что им придётся воевать с ними, тоже крепнут и год от года набирают силу.
– Из евреев вышли христиане, – подытоживая тему, сказал Александр Николаевич. – Они как матрёшки. Одна в другой. Поэтому христианскому миру следует оберегать евреев. Это залог существования на земле добра и благополучия, мира и спокойствия.
Глава 11. Деканские будни
11.1
Алексей Натанович нет-нет, да и вспоминал инцидент с доцентом Поздняковым и студенткой Соколовой, хотя, казалось бы, поводов для беспокойства не было и ничего подобного на факультете больше не случалось. В связи с этим на память приходили и некоторые факты из его московской студенческой жизни.
И вот в один из дней спокойствию пришел конец – появилась новая жалоба. Когда в деканате было относительно безлюдно, Соловьёв решил поговорить на эту тему с методистом факультета Ольгой Владимировной – его бывшим секретарем, которая в силу своих служебных обязанностей ежедневно общалась с большим количеством студентов.
– Ольга Владимировна, зайдите ко мне, пожалуйста, — позвонил Алексей Натанович по внутреннему телефону. — Ну как, справляетесь с делами без заместителя декана?
– Мне кажется, что справляюсь. Чем больше начальников, тем меньше человек ответственен за принимаемые им решения.
– Это верно. Но мне сегодня хочется поговорить с вами на весьма деликатную тему.
– Слушаю вас внимательно, Алексей Натанович.
– Когда я учился в институте, ребята в общежитии рассказывали, что в Москве существуют подпольные публичные дома, где работают в основном студентки. Стипендия маленькая, а хочется и одеться, и развлечься. Вот и «подрабатывают». Говорили, что в это «интересное» дело были втянуты даже отдельные преподаватели нашего института, которым под большим секретом сообщались адреса этих заведений. Как вы думаете, Ольга Владимировна, в Норильске наши студентки могут заниматься подобным бизнесом?
– Думаю, что нет. Во всяком случае, я об этом не слышала. И потом, основная масса студентов нашего института из обеспеченных семей и живёт дома. Да и стипендия у нас хорошая. Почти оклад инженера на «материке».
– А преподаватели? Может быть, некоторым из них хочется острых ощущений?
– Этого я не знаю, Алексей Натанович.
– Понятно. Ну, тогда прочитайте вот эту любопытную бумагу, которую я получил сегодня от студентки второго курса Нины Щербаковой. Кстати, у меня это не первая информация на подобную тему.
Пока Ольга Владимировна знакомилась с заявлением Щербаковой, Алексей Натанович внимательно следил за выражением её лица.
– Скандал, – густо покраснев, тихо произнесла Ольга Владимировна. – Я даже не могу себе этого представить.
– Постарайтесь представить. Хочу только добавить, что полгода назад на то же самое мне жаловалась студентка Соколова. С той лишь разницей, что Щербакова отличница, а Соколова практически в каждой сессии имеет переэкзаменовку.
11.2
Реакция Ольги Владимировны была важна декану Соловьёву, чтобы правильно выстроить разговор с ректором. Кроме информации о сексуальных домогательствах доцента Позднякова, от Алексея Натановича потребуются и предложения, как предотвратить подобные ситуации в будущем.
Разговор с ректором протекал более или менее спокойно до тех пор, пока Пётр Васильевич не спросил Соловьёва:
– А где вы, Алексей Натанович, в этой неприглядной картинке? Какой мерой ответственности сами себя наделяете? Каким образом я должен наказать вас за то, что делается на вашем факультете?
– Я не знаю, Пётр Васильевич, но это впервые в моей практике. Раньше такого никогда не было.
– Что за детский лепет? Никогда не было. Это не объяснение.
С каждым новым вопросом ректор заводился всё больше и больше. Таким разгневанным и одновременно расстроенным Алексей Натанович его никогда не видел. Немного успокоившись, Пётр Васильевич как бы подвёл черту под их тяжёлым разговором.
– Смотрите, Алексей Натанович, город у нас маленький, все друг друга знают. Когда инцидент дойдёт до горкома партии, подобные вопросы зададут уже не вам, а мне. Так что идите и думайте, как на них отвечать.
Не прошло и часа, как ректор сам позвонил Соловьёву:
– Алексей Натанович, зайдите ещё раз ко мне.
Было очевидно, что, исходя из каких-то собственных соображений, ректор озаботился по поводу их разговора не на шутку. За много лет, что Соловьёв проработал деканом факультета, не было случая, чтобы ректор перезванивал ему, да еще лично. Значит, есть в этой ситуации что-то такое, чего ректор испугался или чем задумал воспользоваться. Пугаться ему было вроде нечего, так как молодёжная среда всегда характеризовалась «активным адюльтером», как любил выражаться доцент Кобылянский. Значит, остаётся второе: ректор решил кого-то крепко наказать. И этот кто-то был, по всей видимости, проректор Козлов.
– Ну что, Алексей Натанович, появились у вас какие-нибудь соображения по обсуждаемой теме?
– К сожалению, нет. Тема непростая. Нужно хорошо подумать.
– А вот я думаю, что это дело должно получить в нашем институте боль¬шой общественный резонанс. И для этого следует организовать общее собрание студентов и преподавателей вашего факультета. Провести его можно в актовом зале института. Вход для всех желающих сделать свободный. Председателем собрания должны быть вы сами или кто-нибудь из авторитетных преподавателей. Подумайте над регламентом, чтобы собрание не превратилось в базар, и на следующей неделе представьте его мне. Да, кстати. Собрание должно завершиться конкретными предложениями ректорату. Вам всё понятно, Алексей Натанович?
– Всё.
– Выполняйте.
11.3
Вернувшись от ректора, Соловьёв сразу начал думать, кому поручить вести собрание факультета. Как учил его Григорий Борисович, прежде всего, следует определиться с конечным результатом. Подумать, чем должно закончиться это собрание и что от него ожидает ректор. Ведь недаром он сделал акцент на конкретных предложениях для ректората. Банально рекомендовать уволить доцента Позднякова из института – это ректор может сделать и сам, подкрепив своё решение представлением профсоюзного комитета и выпиской из заседания кафедры. Тогда чего такого особенного хочет от него ректор? Зачем ему нужен этот колокольный звон на весь город? По всей видимости, ректору нужен не доцент Поздняков или доцент Соловьёв, а фигура посерьёзней. И опять, как час назад, в его догадках всплыло имя проректора Козлова.
Общее собрание студентов и преподавателей энергомеханического факультета было назначено на среду в 16.00. Это было время партийной организации института, которое никто не имел право занимать. Таким образом, выбор дня и времени проведения собрания говорило о том, что мероприятие находится также под контролем партбюро института. Большая афиша о предстоящем собрании располагалось не как обычно на доске объявлений, а на центральной колонне вестибюля, пройти мимо которой было просто невозможно. Актовый зал института был полон уже к трем часам дня. А студенты всё подходили и подходили. Многие стояли в проходе, сидели на подоконниках и даже толпились у настежь открытых дверей. Первый ряд кресел, предназначенный для преподавателей, просили не занимать.
На сцене актового зала стоял небольшой стол, покрытый зелёной скатертью. За столом точно в назначенное время появился профессор кафедры механики Владимир Петрович Прохоров. Он деловито разложил на столе какие-то бумажки и поднял голову, оглядывая зал. Зал затих.
– Ну что, начнём? Представляться не буду. Думаю, что меня и так все знают. Руководство института поручило мне – как одному из старших по воз¬расту представителей профессорско-преподавательского состава – провести общее собрание студентов и преподавателей энергомеханического факультета. Я не умею вести подобные мероприятия, но согласился поговорить начистоту с коллективом об одном весьма деликатном происшествии. Дело в том, что наш пока коллега, доцент кафедры высшей математики Александр Васильевич Поздняков, выбрал оригинальный способ завершения своего экзамена путём приглашения студенток к себе домой. При этом он их предупреждал, что оценку за экзамен озвучит только тогда, когда они придут к нему в гости. С зачётками.
Зал среагировал на вступительное слово профессора Прохорова мощным гулом. Студенты шумно обменивались между собой репликами, замечаниями, шуточками. Прохоров, как опытный лектор, держал паузу, давая аудитории возможность выговориться.
– Ну, всё. Тихо. Закончили базар. Перед тем, как дать слово другим выступающим, я расскажу об одном случае из моей жизни. Только вы слушайте внимательно. Это было много лет назад, я учился ещё в университете. Однажды решил пораньше вернуться с занятий домой, чтобы выгулять свою собачку Маню. У неё как раз началась течка. Подошёл к лестнице, которая вела на второй этаж к моей квартире, и не поверил своим глазам. На каждой ступеньке лестницы сидело по собаке. Маленькие, средние, большие, чёрные, рыжие, белые. Различных пород и мастей. Собаки сидели спокойно, с достоинством. Увидев этот парад кобелей, я сначала оторопел, не зная, как между ними пройти. Но всё-таки решил продолжить движение. Когда зашёл в квартиру, я увидел, что моя Маня тихо лежит около порога и жалобно на меня смотрит. Вот такие дела.
Зал молчал. Профессор переложил зачем-то с одного места на другое лежащие перед ним бумаги, а потом пробормотал что-то себе под нос:
– Почему я вам это рассказал? Потому что проблема взаимоотношений между мужчиной и женщиной стара как мир. Сексуальное домогательство – это чушь. Бороться с ним какими-то запретами, а тем более взысканиями – это всё равно что лечить понос зубным порошком. Женщины должны сами отбраковывать мужчин, которые им не подходят, находя для этого серьёзные аргументы. А то, что в наше время они провоцируют мужчин – бесспорный факт. Раньше девушки, когда я был молодой, носили длинные юбки, чуть ли не до пола. Вот в этой-то юбке и была их притягательная, загадочная тайна. Для раскрытия этой тайны мужчины подвиги совершали. Глядя на женщину, они должны были многое додумывать. А сейчас и думать не надо – юбка и трусы у современных девушек заканчиваются одновременно. Вот так.
11.4
Профессор Прохоров грозно оглядел зал. Было заметно, что ему самому его корявое выступление не совсем понравилось.
– Ну, кто желает высказаться по данной теме?
– Страшновато после вас выступать, – заметил налысо стриженный студент, сидящий во втором ряду. – Ещё чего-нибудь брякнешь, потом не отмоешься.
– Ну, ты, Карасёв, выходи. Выскажи своё мнение.
– Не-а. Не хочу.
Выручила Карасёва появившаяся на трибуне без приглашения старший преподаватель кафедры экономики Виктория Павловна Макарова. Блестящий лектор и грамотный аналитик, она собирала на свои лекции полные студенческие аудитории. На любой самый незначительный вопрос Виктория Павловна всегда давала логичный и исчерпывающий ответ.
– Уважаемые товарищи, коллеги! Меня не столько задел факт морального падения доцента Позднякова, который, пользуясь своим служебным положением, вымогает любовь у студенток. Здесь, мне кажется, и обсуждать нечего – администрация института должна принять в соответствии с законом соответствующее решение. А вот сюжет с собаками, о котором рассказал профессор Прохоров, мне очень понравился. У меня тоже много лет назад была собака. Такса. Звали её Нюрка. Рано утром она требовала, чтобы я шла с ней гулять. Поначалу я сама выходила из дома, а потом заметила, что моё присутствие вовсе не обязательно. При приближении другой собаки Нюрка сигнализировала ей взглядом или голосом, что этого делать не следует. Или наоборот. Вы спросите, зачем я снова затеяла этот разговор о собаках? Отвечу — для того чтобы поддержать профессора Прохорова. Пусть аналогия с миром животных покажется кому-то грубоватой, но законы взаимоотношений, которые диктуют людям соответствующее поведение, даны самой природой. Это касается, в первую очередь, взаимоуважения между мужчиной и женщиной. Женщина должна не жаловаться, а жёстко пресекать любой намёк на неуважение к себе. Сегодня она сделала вид, что не заметила какой-то незначительный жест со стороны мужчины, а завтра это может быть уже не жест, а серьёзное действие. Цель нашего собрания заключается в том, чтобы без ханжества и заламывания рук поговорить об этих проблемах и заставить всех крепко задуматься.
– А как вы, Виктория Павловна, относитесь к феминизму? – раздался мужской голос из середины зала.
– Отрицательно. Я считаю феминизм одной из выдающихся глупостей современного мира. Причём феминизм, как правило, заканчивается при встрече с первым достойным мужчиной.
– Следует ли сравнивать между собой мужчину и женщину? – спросила студентка из третьего ряда.
– Совершенно бессмысленное занятие. Мужчина и женщина принципиально отличаются друг от друга как в физиологическом, так и в эмоциональном плане. Женщина живёт чувствами, а мужчина – страстями. Но самое главное, женщина думает о последствиях до того, а мужчина – после. В общем, как писал Золя, женщина должна пахнуть духами, а мужчина – потом. Имеется в виду, что мужчина, для того чтобы завоевать женщину, должен тяжело и много трудиться. А иначе он не мужчина, а кобель, сидящий на лестнице в ожидании своей очереди.
Актовый зал содрогнулся от хохота и аплодисментов.
– Скажите, Виктория Павловна, а как понять, что мужчина, встретившийся на твоём пути, тот единственный, которого ты ждала всю жизнь? – с вызовом спросила студентка третьего курса Марина Сорокина.
– Что касается единственного мужчины, то это, Марина, объяснить нельзя. Чувство возникает внезапно, как выскочивший из темноты поезд. Оно ослепляет и парализует. Здесь уже не работают никакие религиозные, национальные или сословные ограничения. Любовь есть любовь.
– Откуда же берутся в таком случае разводы? – не унималась Марина.
– Не знаю ответа на твой вопрос. Здесь всё очень индивидуально. Могу только предположить, что мужчины меняют женщин, чтобы самоутвердиться в своих возможностях. Это их мужская природа.
– А женщины?
– А женщины меняют мужчин, постоянно ведя активный поиск надёжного для жизни партнёра. И это правильно.
Студенты проводили старшего преподавателя Макарову громкими аплодисментами. Полушутливый и одновременно серьёзный тон ее выступления подхватили практически все последующие ораторы. Но апогей веселья настал, когда на трибуну вышел мастер учебно-производ¬ственных мастерских Мальцев.
– Я вот послушал, о чём вы тут говорите, и тоже хочу сказать несколько слов. Отец и мать меня в строгости воспитывали. Без баловства. А жили мы в пригороде Минусинска. Не поймёшь – то ли деревня, то ли город. Всё одно – куры и огород. В квартире нас было четыре семьи. У соседей Митрофановых был сын Лёнька, учился в автомобильном техникуме. Смышлёный такой парнишка, начитанный. Так он каждый год новую жену в дом приводил. Я со счёту сбился, а он мне подсказывает – восьмая. Однажды я у него и спрашиваю: «Лёнька, что ты так часто девок меняешь?». А он мне отвечает: «Секс это называется по-иностранному, дядя Федя». И есть он, значит, только у людей и дельфинов. Остальные животные на земле занимаются этим делом только для продолжения рода.
Актовый зал дрожал от хохота. Студенты свистели, топали ногами, сползали с кресел. Казалось, все уже забыли, по какому поводу собрались. Профессор Прохоров тщетно призывал к тишине. Остановить веселье было невозможно, но и Федор Иванович Мальцев не спешил покидать трибуну, довольный произведённым эффектом.
– Ну, так вот. Когда я был молодой, любовь у нас с Танькой, соседкой моей, приключилась. А потом меня в армию забрали. Так Танька пришла к военкому и говорит: «Так, мол, и так. Федька обещал на мне жениться, а вы его в солдаты берёте. Не годится это». А военком осерчал и прогнал её со словами: «Обещать можно ребёнку конфетку дать, а не жениться. Здесь нужно чувства иметь, дура».
В зале происходило что-то невероятное. Фёдора Ивановича провожали на место такими овациями, каких институт не слышал, наверное, со дня своего основания.
Общее собрание энергомеханического факультета, вместо запланированных двух, длилось почти четыре часа. Когда Прохорову удалось навести, наконец маломальский порядок, он зачитал решение, состоящее всего из двух пунктов: «1. Ходатайствовать перед ректоратом Норильского технологического института об увольнении из института доцента кафедры высшей математики Позднякова Александра Васильевича. 2. Считать целесообразным проведение общего собрания преподавателей и студентов энергомеханического факультета не менее одного раза в семестр».
11.5
После факультетского собрания, прямо в коридоре, к Алексею Натановичу подошло несколько студентов со своими вопросами. Поодаль, как бы чего-то выжидая, стоял удручённый Поздняков. Разобравшись со студентами, Соловьёв подошел к нему:
– Александр Васильевич, вы меня ждёте?
– Да, Алексей Натанович. Хотелось бы с вами переговорить.
– Хорошо, пойдёмте ко мне в кабинет, пока меня здесь снова не перехватили.
В хорошем костюме, белой рубашке с галстуком, доцент производил внешне весьма приятное впечатление. Алексей Натанович внимательно посмотрел в его открытое лицо. Высокий лоб, серые глаза. Спокоен, немногословен. Не было ничего в облике Позднякова, что могло бы вызвать отрицательные эмоции. На собрании, где обсуждалось его аморальное поведение, он просидел от начала до конца, не пытаясь выйти на трибуну и что-либо опровергнуть. О чем это говорило? Об уверенности в себе? О нежелании пачкаться? Или он был просто согласен со всеми обвинениями, которые ему предъявляли, и не хотел оправдываться? Его позицию можно было трактовать как угодно, только не однозначно.
– Что вы хотели мне сказать, Александр Васильевич?
– В принципе ничего. Только к тому, что сегодня обсуждалось на собрании, я не имею никакого отношения.
– Не понял. Почему же вы не выступили и не защитили своё доброе имя? Почему, в конце концов, не потребовали наказать своих обидчиц за клевету?
– Почему? Потому что в жизни я никогда и ни за что не оправдывался и не собираюсь этого делать. Это ниже моего достоинства. А оба обсуждаемых инцидента сексуального домогательства с моей стороны – это навет. В первом случае студентка Соколова не имела никаких шансов сдать экзамен по высшей математике, о чём я её сразу предупредил. И «неуд» ей поставил в ведомости в её присутствии, а не дома. Что касается Щербаковой, то здесь ситуация другая. По результату экзамена я поставил ей «хорошо», но она претендовала только на «отлично». Разозлилась, забрала зачётную книжку и кинулась опрометью из аудитории. Извините за подробности, но у меня с ней сложные отношения, инициатором которых является она сама. Щербакова регулярно поджидает меня около института после работы и провожает до дома. Часто звонит по телефону. Я объяснял, что у меня есть другая женщина, но ей, видимо, этого недостаточно. Она решила меня уничтожить до конца. Женская месть – страшная штука.
– Ну и всё-таки, Александр Васильевич, почему вы ничего не предприняли, чтобы защитить себя? Почему разрешили публично в течение четырёх часов себя оскорблять?
– Вы знаете, Алексей Натанович, это, по всей видимости, мой рок, моя судьба. Не следует мне работать со студентами. Это для меня минное поле. Неизвестно, где подорвусь. Не исключаю, что и в будущем могут быть подобные инциденты. Поэтому я решил уйти из института.
– И куда, если не секрет?
– Не секрет. В вычислительный центр комбината.
– Вы хорошо подумали?
– Хорошо. Вот моё заявление об уходе по собственному желанию. Только у меня к вам, Алексей Натанович, просьба: не нужно больше обсуждать это дело. Незаслуженно марать меня, да и молодых девчонок жалко.
– Оставьте ваше заявление, Александр Васильевич. Если не возражаете, я подпишу его позже.
11.6
Доцент Поздняков ушёл, а Алексей Натанович, размышляя о состоявшемся между ними разговоре, бесцельно перекладывал бумаги на своём столе. Вроде инцидент, в связи с поданным заявлением, был полностью исчерпан. Но это был шаг с его стороны, а как поведут себя в дальнейшем студентки – неизвестно. Сейчас женщины вообще заняли в жизни активную позицию. Причём в их цепкой памяти хранятся факты многолетней давности. Женщина может припомнить всё: кто, когда и при каких обстоятельствах положил на нее взгляд, руку и т. д. И главное – вытащить всё это на белый свет к нужному времени и к нужному месту. А услужливые люди, озабоченные общественной моралью, подхватят эту информацию и вывалят на голову бедного мужчины, давно и безвозвратно забывшего все «трогательные обстоятельства» дела.
И вдруг Соловьёв – благо, он был в деканате один, – зашелся от безудержного смеха. Ему показалось, что из всех углов кабинета ему грозят пальчиком девочки: «Ишь ты, проказник. Прикидываешься праведником. А на са¬мом деле, тот ещё окунь. Вот мы выведем тебя на чистую воду. Не уйдёшь».
Алексей Натанович принялся лихорадочно вспоминать, где, когда и с кем он мог сам «засветиться» за каким-нибудь неблаговидным занятием. Набралось несколько ничтожных эпизодов, но в принципе волноваться было не о чём. И, тем не менее, он прекрасно понимал, что дело здесь не в количестве случаев, а в везении. Точнее, в невезении. Нет мужчин, которые никогда в своей жизни не побывали бы в какой-нибудь истории. Значит, одним просто везёт, а другим нет. И что делать? А ничего. Продолжать жить и не оглядываться. Как говорила комендант его студенческого общежития, разбирая очередную жалобу студенток: «Девки, не нойте. Все мужики одинаковые».
Придя в шутливое расположение духа, Соловьёв уже не мог остановиться. Он взял чистый лист бумаги и большими буквами написал заголовок:
Воззвание мужчины
(вопль души)
Дорогие женщины!
Мы, мужчины, умоляем вас прекратить выяснять с нами отношения. Это глупо и неконструктивно. Вспомните замечательные слова А. П. Чехова: «Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского – глупеют». Мы уже на пути к полному идиотизму.
Остановите нас, пока не поздно.
Мы вас очень просим.
Любящие вас мужчины
Свой «вопль души» Алексей Натанович положил под стекло на своём письменном столе, закрыл кабинет и пошёл домой.
11.7
На следующий день, как только Соловьёв зашел в свой кабинет, сразу зазвонил внутренний телефон. Звонила секретарь ректора Лиза.
– Здравствуйте, Алексей Натанович. Пётр Васильевич просит вас подготовить все материалы по доценту Позднякову и явиться к нему в два часа дня.
– Хорошо, Лиза, я понял.
Алексей Натанович достал из ящика стола заявление Позднякова. Всего три строчки, а жизнь серьёзного умного человека кардинально меняется. Может быть то, что он вчера ему рассказал, правда, и тогда Поздняков достоин искреннего сочувствия и глубокого уважения. А может, и нет. В любом случае Александр Васильевич Поздняков выглядел благородней своих студенток, отказавшись выяснять с ними отношения. Ректор, безусловно, уже знает, как прошло вчера общее собрание студентов и преподавателей энергомеханического факультета: что говорили, кто выступал, какое приняли решение. Институт, как никакое другое учреждение, опутан сверху донизу невидимыми информационными нитями. Неизвестно, как они функционируют, где начинаются и где заканчиваются, но любая новость распространяется в его стенах исключительно быстро. Так как основной «продукцией», производимой сотрудниками института, являются слова, то и гуляют они по коридорам, передаваемые от одного к другому «под большим секретом».
Кстати, не только ректор был всегда хорошо информирован о происходящем в институте. Не было ни одного мало-мальски заметного события, о котором Алексею Натановичу не доложили бы в тот же день. В принципе, он не видел в этом ничего плохого, так как подобная осведомленность позволяла ему оперативно следить за ситуацией на факультете.
В два часа дня Соловьёв был уже в кабинете ректора.
– Заходите, Алексей Натанович. Ну, что у нас нового в деле доцента Позднякова?
– Он написал заявление об уходе по собственному желанию.
– Когда?
– Вчера, после общего собрания. Попросил выслушать его и после этого написал заявление на увольнение.
– Где это заявление?
– Вот оно.
– А почему здесь нет даты?
– Разве? Я не обратил внимания.
Пётр Васильевич несколько минут молча рассматривал заявление Позднякова, как будто желал найти в нём другой смысл, кроме написанного. Потом отложил его в сторону и заговорил.
11.8
Монолог ректора длился не менее двадцати минут. Говорил Тихомиров тихо, спокойно и очень уверенно. Речь шла, как и предполагал Соловьёв, о проректоре по учебной работе Семёне Владимировиче Козлове. Начал ректор издалека, со времени основания Норильского технологического института. В начале их совместной работы они при обоюдном согласии поделили сферы своей деятельности: Козлов занимался организацией учебно-воспита¬тельного процесса, а Тихомиров – материально-технической базой института и внешними контактами. Ректор подчеркнул, что на первых порах многие вопросы оснащения института лабораторным оборудованием решались только благодаря его дружеским связям с Норильским комбинатом. Комбинат всегда шёл навстречу институту, так как основной целью создания высшего учебного заведения в Норильске была подготовка кадров, адаптированных к условиям Крайнего Севера и знающих специфику местного производства. В этом случае приток молодых специалистов с «материка», требующих, прежде всего, жилой площади и нередко покидающих Норильск после трёх лет работы на комбинате, существенно уменьшался.
Пётр Васильевич сделал паузу, поднялся из-за стола и вынул из холодильника бутылку минеральной воды. Разлил её в два стакана, один протянул Соловьёву.
– Так продолжалось примерно первые пять лет. Институт рос, становился на ноги, зарабатывал у Норильского комбината авторитет. Но как-то раз Козлов неожиданно заявил, что вся моя деятельность в плане материально-техни¬ческого обеспечения института, мягко говоря, незаконна. Нельзя-де всё время «левым путём» тащить с комбината приборы, оборудование и материалы, хотя этого и требует подготовка специалистов. Тогда я резонно заметил, что, во-первых, «правым путём» мы будем ожидать этого от министерства несколько пятилеток, а во-вторых, наша совместная с комбинатом деятельность прописана в коллективном договоре. Но в другой раз Козлов в пылу спора со мной уже впрямую намекнул, что у него имеется большой список эпизодов, за которые, настанет время, мне придётся перед государством отчитаться.
Пётр Васильевич вдруг поднял телефонную трубку и попросил секретаря, чтобы она ни с кем его не соединяла. Потом налил себе ещё полстакана воды и залпом выпил.
– На следующий день Козлов долго извинялся. Сказал, что ничего плохого в виду не имел — ляпнул, не подумав. Но вы, конечно, понимаете, что всё это неспроста. Не буду скрывать, что после этого инцидента наши отношения стали весьма натянутыми. Было ясно, что кто-то из нас должен из института уйти. Но тут есть одно важное обстоятельство. Мы оба с Козловым, по норильским меркам, пенсионеры. Я «пересидел» свой пенсионный возраст на три года, Козлов – на один. Но существенная разница между нами состоит в том, что меня хоть завтра снова возьмут назад в горнорудное управление комбината, а Козлову найти работу в Норильске будет весьма затруднительно. Учебных заведений, кроме нашего института, здесь больше нет. Подумайте, Алексей Натанович, над тем, что я рассказал вам сегодня, а завтра продолжим наш разговор по поводу ситуации с Поздняковым. Подойдите ко мне к двенадцати часам. Сможете?
– Смогу.
– Очень хорошо. До свиданья.
11.9
Когда на следующий день Алексей Натанович зашёл к ректору, тот что-то писал и, не отрываясь от дела, жестом пригласил его присесть. И вдруг, подняв голову от бумаг, он неожиданно спросил:
– Скажите, Алексей Натанович, а почему вы в прошлом году открыли вход в свой кабинет из коридора и закрыли со стороны приёмной?
– Дело в том, что я принял на работу Ирину Баринову. Девочка хорошая, исполнительная, но постоянно уносит лишнюю информацию из деканата маме, которая работает у нас на кафедре иностранных языков. Вот я и решил сделать себе отдельный вход.
Кажется, ответ декана Пётра Васильевича полностью удовлетворил.
– Ну, хорошо. Вернёмся к делу доцента Позднякова. Точнее, к его заявлению по собственному желанию. Что вы сами, Алексей Натанович, думаете по этому поводу?
– Думаю, что Позднякова нужно отпустить с миром, в соответствии с его просьбой. Мне не хочется копаться в этом грязном белье, тем более что нет возможности достоверно установить, кто из участников этого инцидента врёт, а кто говорит правду. Там много личного.
– Как это вы всё, Алексей Натанович, легко решили! Подписать заявление Позднякову, и с колокольни долой? Не получится. Мне уже сегодня звонили из горкома партии и просили представить развёрнутую информацию по этому резонансному делу.
– Да нет тут, в принципе, никакого дела, Пётр Васильевич. Вся информация – это жалоба студентки Щербаковой о сексуальных домогательствах, заявление об увольнении доцента Позднякова и протокол общего собрания энергомеханического факультета. Вторая девушка заявление на Позднякова писать отказалась.
– А вы говорите – нет информации? Да её больше чем достаточно. Нужно просто провести внутреннее расследование. Каково ваше мнение, Алексей Натанович?
– Мне кажется, что этого делать не следует. Из разговора с Поздняковым я понял, что он глубоко обижен на всех и уйдёт из института в любом случае. А если ещё выяснится, что виноваты сами студентки, то это только усугубит ситуацию. Придётся отчислять их из института.
– Вот это поворот, – удивился ректор.
– К сожалению, у меня самого есть подобный отрицательный опыт. Меня тоже преследовала одна студентка, при этом пыталась шантажировать. Так что, Пётр Васильевич, не всегда виноваты преподаватели.
– Хорошо. Будем думать, как закрыть это дело. Только вы, Алексей Натанович, подготовьте мне справку, чтобы, если понадобится, представить её вместе со всеми документами в горком партии.
Соловьёв ушёл, а ректор Тихомиров довольно потирал руки. Его психологический эксперимент, который он решил поставить, проверяя отношение декана к расследованию поведения доцента Позднякова, завершился так, как он и хотел. Соловьёв отказался участвовать в разборках. Выросший в производственном коллективе, где люди, как правило, прямо выясняют отношения друг с другом, Пётр Васильевич сам не любил всякие комиссии и не поощрял их создание.
11.10
Но скандал в Норильском технологическом институте набирал обороты. Война между Петром Васильевичем Тихомировым и Семёном Владимировичем Козловым шла по всем фронтам. Внешняя поддержка у обеих сторон была слабовата, поэтому основная борьба между ними разгорелась внутри института. Первым делом оба начали вербовать в свои ряды сторонников. Больше их оказалось у проректора Козлова. Но зато на стороне ректора были «тяжеловесы» – заведующие кафедрами и начальники отделов. В течение рабочего дня сотрудники института собирались по разным углам и активно обсуждали создавшееся положение. Вся работа института, кроме учебной, практически остановилась. Противоборство ректора и проректора не позволяло нормально провести ни одно партийное или профсоюзное собрание. По той же причине сорвалось очередное заседание Учёного совета. Кое-кому из числа руководства института стали поступать телефонные звонки с угрозами, вызывая у них страх и панику.
Воспользовавшись отсутствием крепкой власти в Норильском технологическом институте, некоторые из его работников начали слать во все инстанции письма, жалуясь на нереализованные планы, которые они строили в связи с переездом на Крайний Север. Институт лихорадило от разного уровня комиссий, которые только мешали навести порядок в вузе. Естественно, что на такую неординарную ситуацию в заполярном институте активно отреагировала пресса, и в Норильск мгновенно слетелись журналисты из различных газет. Статьи, появлявшиеся в местной и центральной прессе, живописали, как правило, искажённую картину – в зависимости от того, из чьего лагеря была получена информация. В довершение ко всем неприятностям, в здании института начали появляться посторонние люди, которые занимались спекуляцией. Говорили, что были случаи и торговли наркотиками. В условиях закрытого города данная ситуация была просто недопустима. Администрации института пришлось в срочном порядке обратиться к услугам вневедомственной охраны Норильска и ввести в институте пропускной режим.
11.11
Сегодня декан Соловьёв чувствовал себя неважно, но всё-таки решил пойти на работу. Только он зашёл в кабинет, как по внутреннему телефону позвонила секретарь факультета Ирина.
– Алексей Натанович, вам уже два раза звонил товарищ Боярский с комбината. Просил ему перезвонить. Я сейчас занесу вам его номер телефона.
– Спасибо, Ирина.
Номер телефона был ему не знаком, но в институте было принято перезванивать на комбинат сразу.
– Здравствуйте. Моя фамилия Соловьёв. Соедините меня, пожалуйста, с товарищем Боярским.
– Одну минуточку, – ответил молодой женский голос.
– Добрый день, Алексей Натанович. Боярский, секретарь парткома цементного завода. Горком партии поручил мне побеседовать с вами по ряду вопросов. Как нам это лучше сделать?
– Пожалуйста, я к вашим услугам.
– Вы не возражаете встретиться сегодня вечером?
– Нет, не возражаю.
– Тогда в шесть часов вечера за вами придёт моя машина.
– Хорошо, буду встречать.
На пороге просторного кабинета, освещённого только настольной лампой, Алексея Натановича встретил подтянутый человек приблизительно его возраста.
– Владимир Иванович, – представляясь, протянул руку хозяин кабинета. Рукопожатие было по-мужски крепким.
– Проходите. Присаживайтесь, пожалуйста. Если курите, не стесняйтесь. Я тоже курю.
– Нет, спасибо. Я не курю.
– Ну, тогда приступим к делу. Вы в Норильске давно?
– Около десяти лет.
– Нравится здесь?
– Да. Здесь всё настоящее.
– Скажите, Алексей Натанович, а почему в Норильском технологическом институте всегда так неспокойно? Вот и сейчас, как нам стало известно, затевается очередная буза.
– Почему всегда? В нашем институте, равно как и в других высших учебных заведениях, возникает периодически, так сказать, интеллектуальное цунами по той простой причине, что работают в нем не обычные преподаватели, а учёные. У них нестандартный склад ума. Тем более в Норильском институте, где всё особенное. Что касается бузы, то я, извините, не понял вашего вопроса.
Владимир Иванович Боярский не ожидал от гостя такой независимой позиции. Даже упоминание о городском комитете партии, по поручению которого проходит эта беседа, видимо, нисколько его не смутило.
– А почему вы считаете, что ваш институт особенный?
– По ряду причин. Но начну, с вашего позволения, с небольшой поправки. Вот вы сказали «ваш институт», а это в корне неверно. Норильский технологический институт, а ранее Норильский горно-металлургический техникум, в здании которого он в настоящее время находится, был создан с единственной целью – обеспечить квалифицированными кадрами Норильский комбинат. Поэтому это «наш с вами институт», уважаемый Владимир Иванович. Позволю себе также напомнить, что Норильский техникум, созданный в 1944 году, подготовил для Норильского комбината в самые тяжёлые военные и послевоенные годы руководителей всех рангов, вплоть до самого высокого.
– А может быть, настало время, Алексей Натанович, отделить упомянутый вами техникум от института?
– С моей точки зрения, этого делать не следует. Среднетехнический факультет в составе Норильского института, заменивший в своё время техникум, позволяет на хорошей лабораторной базе готовить квалифицированных младших руководителей производства. Уверен, что наш пример совместной подготовки техников и инженеров со временем возьмут на вооружение и другие вузы «материка».
– Хорошо, Алексей Натанович. В чём еще, по вашему мнению, заключаются особенности Норильского института?
– Во-первых, в удивительном профессорско-преподавательском составе. У нас есть кафедры, на которых нет преподавателей без учёной степени и звания. Такое редко встретишь даже в столичных вузах. С одной стороны, это очень хорошо – иметь высококвалифицированные кадры, а с другой, ситуация бывает иногда взрывоопасна. На кафедрах собрались преподаватели из разных научных школ, разного уровня подготовки, с разной методикой преподавания одной и той же дисциплины. Из них нельзя, по мановению волшебной палочки, сделать единый научно-педагогический коллектив. И ещё. Следует учитывать тот факт, что эти умные, образованные, остепенённые люди приехали в Норильск не просто так, а каждый со своей определённой целью: заработать денег, получить очередное звание, продвинуться по службе. Некоторые просто сбежали на Север от каких-то жизненных неприятностей: семья развалилась, с начальством поругался, всё кругом надоело. Решили поменять обстановку, хотя, конечно, от себя не убежишь. А вы еще спрашиваете – почему в Норильском институте бывает неспокойно?
– Понятно. А что, во-вторых?
– А во-вторых, в институте уникальный контингент студентов. Все студенты дневных факультетов более или менее обеспеченные молодые люди.
– Ну и что же тут плохого?
– Плохого ничего. Но есть один серьёзный момент. Студентов нашего института после обязательных занятий по расписанию необходимо чем-то занять, оставив в стенах института.
– Это ещё зачем?
– А затем, уважаемый Владимир Иванович, чтобы им было интересно жить. На улице в Норильске не погуляешь, а общаться молодым хочется всегда. Если мы не найдём им занятия в институте, они найдут его сами в других местах – по квартирам, в ресторанах, в кафе, на дискотеках. Благо, деньги-то есть. Но тогда наше участие может им уже больше не понадобиться.
– Вы так хорошо разбираетесь в психологии студентов?
– Представьте себе, да. Правда, иногда в этом вопросе правоохранительные органы помогают.
– И что же из этого следует?
– А следует необходимость проводить со студентами большую внеаудиторную работу: привлекать к науке, организовывать кружки, спортивные секции, художественную самодеятельность, проводить различные культурно-массовые мероприятия. Но для всего этого, как вы понимаете, нужны деньги, а их, к сожалению, не хватает.
– На что вы намекаете, Алексей Натанович?
– Я не намекаю, а говорю прямо, уважаемый Владимир Иванович: в образование, в широком смысле этого слова, нужно вкладывать деньги. Хорошие деньги. По-другому ничего не получится. Все университеты мира живут за счёт спонсорских пожертвований и частных фондов.
– В Советском Союзе нет системы спонсоров, а тем более частных фондов.
– В таком случае нужно изыскивать другие возможности помогать образовательному учреждению. Норильский комбинат может взять наш институт на свой баланс и сделать его своим базовым подразделением. Извините меня, Владимир Иванович, за некоторую скабрезность, но если сделали ребёночка, то нужно его воспитывать, заботиться о нём, а не только контролировать поведение и читать морали.
11.12
Боярский с Соловьёвым беседовали уже два часа, но к обсуждению глав¬ной темы разговора – что за очередное брожение умов происходит в Нориль¬ском технологическом институте – они всё ещё не подошли.
– А давайте-ка, Алексей Натанович, попьем с вами чайку, – неожиданно предложил Боярский. – Предупредите жену, что немного задержитесь. Уж очень мне хочется продолжить нашу интересную беседу.
– Перед встречей с вами я позвонил ей и предупредил, что приду поздно.
– Очень хорошо. Ну, так продолжим. Значит, вы не согласны со мной, что в Норильском институте в настоящее время происходит буза. А городской комитет партии между тем завален письмами, подписанными и анонимными. Пишут, что коллектив института раскололся на два лагеря: один поддерживает ректора, другой – проректора. Или вам это тоже не известно?
– До некоторой степени известно. Но, во-первых, у меня хорошие деловые отношения как с ректором, так и с проректором. А во-вторых, я уже вам говорил, что это всё имеет место в допустимых пределах для подобного учреждения. В институте периодически происходит обострение ситуации, которое в большей степени определяется личностными мотивами, а не чем-либо иным.
Боярский молча помешивал ложечкой чай, испытывающее глядя на Алексея Натановича.
– Хорошо, — продолжил говорить Алексей Натанович, — попробую объяснить по-другому. Дело в том, что Норильский институт, это не Норильский комбинат. Здесь с помощью демобилизованных или комсомольского десанта кадровую проблему решить нельзя. Все вакансии в институте замещаются по конкурсу, как правило, приезжими людьми. Приехал такой человек, кандидат или доктор наук, отработал один или два пятилетних срока и уехал. Тогда как вузы «материка» живут преемственностью и традициями. Если в двух словах: пришёл на кафедру ассистентом, ушёл на пенсию профессором. Не у всех, конечно, так получается, но по идее так должно быть. В основе успеха любого вуза лежит научная школа. Если её нет – ничего нет. В том числе и стабильности. А для возникновения такой школы требуется достаточно большой промежуток времени. У некоторых индивидуумов в нашем институте не хватает терпения, и они начинают жаловаться во все инстанции, письма писать, ругаться с коллегами.
– А что вы скажете по поводу кандидатуры ректора? – спросил вдруг Боярский.
– Это, извините, Александр Иванович, вопрос не моей компетенции. Позвольте мне воздержаться от обсуждения данной темы.
– Ну что ж, Алексей Натанович, на этом мы наш разговор закончим. Сейчас я вызову машину, и поедем по домам.
11.13
Соловьёв старался не пропускать заседаний своей кафедры. Во-первых, как доцент кафедры он был обязан регулярно отчитываться о собственной преподавательской деятельности, а во-вторых, это был самый лучший способ пообщаться с коллегами. Иногда, в силу своей занятости, он мог и не придти на заседание, но сегодняшнее было посвящено анализу результатов прошедшей экзаменационной сессии, а значит, напрямую касалось и его как декана.
К сожалению, Алексей Натанович почти всегда чувствовал настороженное к себе отношение со стороны членов кафедры – преподаватели старались держаться подальше от начальства. Однако были на кафедре два человека, которые с ним не церемонились, – это секретарь Светлана и заведующий лабораториями Витёк. Не имея своего стола, Витёк на заседаниях кафедры подсаживался к Светлане и своими репликами веселил всех присутствующих. Вот и сегодня перед началом заседания он уже громко смеялся и шутил:
– А хотите я расскажу вам анекдот про сессию? – спросил Витёк у присутствующих.
– Хотим, – громко за всех ответил Кобылянский.
– Ну так вот. Один студент спрашивает другого: «Скажи, что такое экзамен?» – «Это разговор двух умных людей». – «А если один из них дурак?» – «То второй берёт зачётку и уходит».
Смеялись все. Даже Винокуров, которому по должности вроде не пристало этого делать. Заведующий кафедрой, как обычно, восседал на подиуме, а профессор Прохоров тулился у стола старшего преподавателя Сидоровского. На время заседаний он всегда освобождал свой стол декану факультета Соловьёву, несмотря на все просьбы Алексея Натановича не делать этого.
– Уважаемые товарищи, прошу внимания! – призвал присутствующих к порядку доцент Винокуров. – Начинаем заседание кафедры. Повестка дня лежит у каждого на столе. Есть замечания по повестке?
– Есть, – сразу откликнулся Витёк. – Предлагаю поменять местами первый вопрос – результаты экзаменационной сессии и последний – состояние лабораторий кафедры. Во-первых, кафедра в кои-то веки серьёзно и без спешки рассмотрит, на какой базе мы учим студентов, а во-вторых, декан Соловьёв хоть раз в жизни до конца поприсутствует на заседании.
– Виктор Петрович, не нарушайте порядок, – попытался одёрнуть заведующего лабораториями Винокуров.
– А что я нарушаю? Вы же сами попросили дать замечания по повестке дня. Ну, я и дал.
– Всё. Дали и успокойтесь. Продолжаем заседание.
– А я поддерживаю предложение Виктора Петровича, – сказал старший преподаватель Сидоровский.
– Тогда давайте проголосуем.
Большинство было за повестку дня, предложенную заведующим, и по однажды заведенному порядку все преподаватели кафедры начали скучно докладывать о результатах успеваемости по своему предмету. Все знали, что если в экзаменационной ведомости нет неудовлетворительных оценок, то заведующий кафедрой будет считать, что преподаватель провёл экзамен поверхностно. И наоборот, большое количество двоек указывало на то, что преподаватель слабо работал с группой в течение семестра. Количество положительных оценок, полученных студентами, никого не интересовало.
Обсуждение результатов экзаменационной сессии подходило к концу, когда заведующий кафедрой Винокуров объявил:
– А сейчас я хочу предоставить слово для небольшого сообщения старшему преподавателю Сидоровскому, который в рамках своей госбюджетной работы сделал анализ некоторых психологических аспектов проведения экзаменов в нашем институте. Пожалуйста, Владимир Евграфович. Вам на сообщение десять минут.
11.14
Владимир Евграфович поправил бабочку, протёр своим белоснежным платком очки и только после этого начал говорить.
– Уважаемые товарищи! Дамы и господа! Всем членам кафедры известно, что я уже в течение нескольких лет выполняю госбюджетную работу по анализу учебного процесса в Норильском технологическом институте. В процессе исследования я прибегаю для сравнения к некоторым положениям из опыта собственного обучения в Шанхайском национальном университете. Сегодня я по просьбе заведующего кафедрой Александра Ивановича Винокурова изложу некоторые свои соображения по организации и проведению экзамена – важнейшего акта в учебном процессе. Хочу заметить, что на экзамен работает не только лектор, принимающий его, но и преподаватели, которые ведут практические или лабораторные занятия в течение семестра, а также учебно-вспомогательный персонал кафедры. Таким образом, экзамен – это не только проверка знаний студентов, но и совокупная оценка деятельности кафедры за текущий семестр.
Мы сегодня на заседании кафедры заслушали сообщения преподавателей о количественных показателях прошедшей экзаменационной сессии, а я хочу коротко доложить некоторые соображения, касающиеся качественной оценки сессии. Итак, преподаватели, принимающие у студентов экзамены, делятся, по моей классификации, на две основные группы – принципиальные и непринципиальные.
Принципиальные преподаватели хорошо знают свой предмет. На серьёзном профессиональном уровне ведут занятия. Строго контролируют студентов на экзаменах и пресекают любое пользование шпаргалками. У принципиальных преподавателей никогда не бывает 100-процентной успеваемости. Пересдача студентами экзаменов отнимает у принципиальных преподавателей много дополнительного времени, но они – ради качества знаний студентов – идут на эти затраты. Принципиальные преподаватели всегда обсуждаемы, а в некоторых случаях порицаемы деканатом. Они, как правило, имеют мало друзей и много врагов.
Непринципиальные преподаватели плохо знают свой предмет. Посредственно ведут занятия и разрешают студентам пользоваться на экзаменах шпаргалками. У непринципиальных преподавателей успеваемость, как правило, 100%. Они на хорошем счету в деканате. Непринципиальные преподаватели сохраняют своё время и нервы. Они имеют много друзей и мало врагов. У меня всё. С удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Кафедра сидела в оцепенении. Десяти отведенных минут Сидоровскому не потребовалось, чтобы озвучить то, что, в принципе, каждый из них знал и так. Действительно, ничего нового старший преподаватель не сказал. Просто никто и никогда не произносил вслух подобных формулировок.
Первым вопрос Сидоровскому задал доцент Кобылянский:
– Скажите, пожалуйста, Владимир Евграфович, предусматривает ли ваша классификация деление экзаменаторов на мужчин и женщин?
– Прекрасный вопрос, Пётр Петрович. Конечно, предусматривает, и у меня этой позиции в работе уделено достаточно много внимания. Преподаватели-женщины более эмоциональны, чем мужчины, но зато лучше чувствуют настроение и потенциал студентов. А это очень важный момент при проведении экзамена. Женщины менее объективны, но чаще, чем мужчины, принимают в спорных ситуациях правильные решения.
– А вот позвольте спросить, уважаемый Владимир Евграфович, – подал голос профессор Прохоров, – можно ли будет в будущем поручить машине принимать экзамены у студентов?
– Можно, но весьма нежелательно. Экзамен – это по большому счёту доверительная беседа двух человек – учителя и ученика – на интересную для обоих тему. Их разговор может выйти за ограничительные рамки и затронуть более широкий круг вопросов. Поэтому, мне представляется, заменить преподавателя машиной никак нельзя.
Алексей Натанович всех внимательно слушал, делая пометки в своём блокноте. Особых замечаний в адрес деканата у преподавателей не было. Правда, как всегда нервно, высказалась Ольга Павловна Афанасьева – по поводу ассистентов, которые вели практические занятия и семинары. Сделала замечание секретарю кафедре Светлане, что та задерживает представление экзаменационных ведомостей в деканат, но как ни странно обошлась без резких выражений в адрес других преподавателей.
Последним выступил декан Соловьёв.
– Прежде всего, хочу поблагодарить кафедру за работу в экзаменационную сессию. У деканата к кафедре претензий нет. И тем не менее позволю довести до сведения кафедры некоторые свои соображения. Я так же, как и Владимир Евграфович, считаю, что экзамен – это не только проверка знаний студентов, но и оценка труда преподавателя в течение семестра. Может быть, аналогия, которую я хочу привести, не совсем корректна, но экзамен похож на игру в теннис. Плохие результаты, показанные студентами, сравнимы со слабой игрой партнёра: или он не принял вашу подачу, или отбил удар так, что мяч не перелетел через сетку. Вы будете довольны такой игрой? Думаю, что нет. Ваши действия в случае повторяющейся из игры в игру плохого поведения партнёра могут быть следующие: или вы меняете партнёра или вид спорта. А привёл я эту аналогию, сравнив экзамен с игрой в теннис, потому что другого варианта оценить работу преподавателя нет. Если только ещё по разным бумагам. Преподавателя и студента на экзамене следует рассматривать как единое целое. Только в связке. И подобные слова я могу позволить себе сказать только в своём коллективе, на своей кафедре. В другом месте их могут истолковать превратно. В том числе и в смысле, что декан подталкивает преподавателей ставить студентам на экзамене положительные оценки.
– Спасибо, Алексей Натанович, за ваши слова. Тут есть над чем подумать. Кто ещё желает высказаться?
И тут, как школьница, подняла руку секретарь кафедры Светлана.
– А можно мне сказать? – обратилась она к заведующему кафедрой.
– Конечно, можно. Всем можно. Говори, Света.
– Я не преподаватель, но хочу сказать, что Алексей Натанович совершенно прав. Я вижу всех преподавателей не только в течение какого-то одного дня, но и многих лет. Есть преподаватели, которые приходят в институт с желанием сделать что-то хорошее, доброе, полезное. А другие – чтобы провести занятие и поскорее убежать домой. Это же с порога чувствуется. А ведь, правда, мы проводим на работе большую часть своей жизни. И если ты не получаешь от работы удовольствие, то неизвестно на что свою жизнь вообще тратишь.
После выступления Светланы заговорили все разом. Сквозь шум выкрикнул доцент Кобылянский:
– Теперь мне понятно, почему профессор Прохоров сидит на кафедре с утра до вечера. Он, таким образом, продлевает свою жизнь.
После заседания кафедры Алексей Натанович подошёл к старшему преподавателю Сидоровскому. Поблагодарив его за весьма любопытное сообщение, он порекомендовал Владимиру Евграфовичу проанализировать результаты экзаменационных сессий студентов с учётом их вступительных экзаменов как абитуриентов. Здесь, по его мнению, могли быть интересные корреляции.
11.15
Работая деканом факультета уже достаточно много лет, Соловьёв пришёл к однозначному выводу, что качество выпуска молодых специалистов определяется в основном качеством абитуриентов. Поэтому Норильскому институту следует брать под своё крыло школьников, начиная с восьмого класса. А с учётом того, что специалистов, в конечном итоге, использует комбинат, – привлекать и его к этой работе.
Декан Соловьёв поручил старшему преподавателю Сидоровскому подготовить черновик проекта совместной работы института, базовых школ города и Норильского комбината. После этого деканат разошлёт данный проект всем заинтересованным лицам и попросит дать свои замечания. Он понимал, что результатов этой многопрофильной деятельности следует ожидать не раньше, чем через несколько лет. И тем не менее — буквально на прошлой неделе ректор отчитывал деканов дневных факультетов за большой отсев студентов первого и второго курса.
На очередной День открытых дверей в Норильском институте Соловьёв шёл не в самом лучшем настроении. Алексей Натанович поднялся на сцену, где за столом уже сидели другие деканы. Предстоящее действо с давно заученными выступлениями и редкими вопросами из зала заранее навевало на него тоску. Но на сей раз всё пошло не по сце¬нарию. Вместо заболевшего декана Волобуева на встречу с будущими абитуриентами пришел его заместитель, улыбчивый молодой человек в джинсах и кремовой водолазке. Начальники, как правило, подбирают в заместители себе подобных, но здесь было явное исключение из правил.
Молодой человек подвинулся, освобождая Алексею Натановичу место.
– Старший преподаватель кафедры физического воспитания Николай Иванович Халтурин, заместитель декана горно-металлургического факультета, – представился он. – Рад с вами познакомиться.
– Взаимно, – ответил Соловьёв. – Приятно видеть в деканате молодых людей.
А когда Николаю Ивановичу подошла очередь выступать, первое приятное впечатление от него у Алексея Натановича только усилилось.
– Привет, молодёжь, – поздоровался с залом Халтурин. – Я преподаватель кафедры физкультуры и одновременно экспериментальный образец заместителя декана факультета. Работаю в этой должности всего четыре дня, ничего в ней пока не понимаю, поэтому буду учиться вместе с вами. Задавайте вопросы, а то не знаю, о чём вам рассказывать.
В зале раздался дружный смех и аплодисменты.
– Какая у вас спортивная специализация? – спросил высокий молодой человек из третьего ряда.
– Я мастер спорта по биатлону. Умею стрелять, ходить на лыжах. Ну, в общем, от меня не убежишь.
– Чего, строгий такой? – хихикнул рыжий парень во втором ряду.
– Не строгий, но противный. Долгое время у меня был тренер. Все звали его «Км» – километр. Проштрафился – будь добр лишний километр: хочешь беги, хочешь ползи. Понятно?
– Понятно, – ответил зал хором.
– И чё, с нами тоже так? – не унимался рыжий абитуриент.
– А как же. В особенности с такими, как ты. Приметными.
– А звать как вас? – тихо спросила девочка, сидящая рядом с рыжим.
– Николай Иванович Халтурин. Был такой народоволец при царе. Степан Халтурин. Страсть любил царей казнить. Я другой, но тоже суровый. Живо выгоню из института. Правда, без казни – в живых оставлю. А теперь приглашаю всех молодых людей поступать учиться в наш институт.
Зал взорвался аплодисментами. Молодёжь не любит штампов, общих слов и банальных ситуаций. Поэтому короткое выступление заместителя декана Халтурина принесло пользы больше, чем весь День открытых дверей в целом. Так или иначе, но в этот год на все специальности Норильского технологического института был совершенно небывалый конкурс.
11.16
Со временем зимовье Боливара стало центром культурной и общественной жизни Норильска или что-то вроде загородного клуба. Но чести быть приглашённым туда удостаивался не каждый. Здесь можно было встретить как местных, так и приезжих учёных, артистов, писателей, журналистов. Поучаствовать в интересном диспуте или послушать выступление известного исполнителя. С этой целью энтузиасты умудрились доставить на зимовье с помощью вертолёта неплохое пианино.
Завалиться без приглашения к Боливару было дурным тоном. Непрошеных гостей встречал Николай и дальше крыльца не пускал. А функции координатора посещений зимовья выполняла Адель, которая с присущим ей тактом беседовала по телефону с потенциальными гостями. Всем было известно также правило: закуски с собой, выпивки никакой.
Естественно, что центром любого мероприятия на зимовье был Александр Николаевич Воронов. Образованный, интеллигентный, спокойный, рассудительный, он к каждому человеку мог найти свой подход. Но самым большим достоинством Воронова была искренность, с которой он об¬суждал любую тему. А еще его прекрасный, чистый русский язык, не засо¬ренный советским сленгом. Некоторые гости даже записывали за ним слова.
Сегодня на зимовье разговор зашёл о коммунизме, который был обещан Хрущёвым советским людям к 1980 году.
– Я думал дожить до этого светлого дня, – пожаловался Прохоров, – а мне, профессору, в очередной раз отказали в постановке домашнего телефона. Сплошная болтовня.
– Да вы не расстраивайтесь. Успеем его ещё и построить, и разрушить, – ответил Прохорову впервые присутствующий в гостях у Воронова молодой поэт Борисов.
– Вы, может быть, и успеете, а мой поезд уже ушёл, – развел руками Прохоров.
– Прошу прощения, – вмешался в разговор Александр Николаевич, – но коммунизм, как мне известно, предусматривает равное обеспечение членов коммуны только продуктами. И больше ничем. В то время как люди отличаются друг от друга, прежде всего, духовными запросами. Одни в результате своей неустанной деятельности достигают вершин в различных областях знания. Другие проводят жизнь легко – в праздности и лени.
– Правильно, – поддержал Воронова Николай. – Все равны только в общей бане, потому что голые.
– Коммунизм и всё, что с ним связано, – продолжал Александр Николаевич, не обращая внимания на реплику Николая, – является большим тормозом в развитии человечества.
– То-то я так некомфортно чувствую себя на всех партийных мероприятиях, – сострил Владимир Петрович.
– Я думаю, что это просто глупый лозунг, который вбросил в народ верховный правитель Хрущёв, – подытожил Александр Николаевич. – Дело в том, что между хвастовством и скромностью очень тонкая грань. Её может почувствовать только умный и образованный человек, коим, как мне представляется, Хрущёв никогда не являлся.
Все присутствующие на заключительную фразу хозяина дома предпочли промолчать.
Глава 12. Новый ректор
12.1
Всю неделю Алексей Натанович был под впечатлением от своего визита на зимовье, и ему хотелось поделиться этим с кем-то еще, кроме жены.
– Алиса, а давай пригласим в воскресенье Илью с Леной. Мы давно с ними не общались. Поговорим о том, о сём, а то живём как затворники.
– Это ты, что ли, затворник? Да я тебя неделями не вижу и не слышу. Домой приходишь только ночевать.
– Вот и хорошо. Зато не надоедаем друг другу. Ну, так как насчёт приглашения «золотых» гостей?
– Конечно, приглашай. Какой разговор. Только помоги мне налепить пельмени. Я их за окно на холод выброшу.
С приходом гостей в тихой квартире Соловьёвых стало шумно и весело. Тон задавал сын Золотых Валерий. Он был на год младше Виктора, сына Соловьёвых. Высокий крепкий мальчик с русским типом лица и светлыми волосами. Нельзя было и представить, что дедушка у него еврей, а бабушка эскимоска. Правда, второй ребёнок в семье Золотых – девочка, которую назвали Аэлита, была точной копией бабушки Клавы: с раскосыми глазами, чёрным волосом и широкими скулами. Спокойная, она всегда всем улыбалась и всему была рада. Над ней тряслась вся семья. В ясли Аэлита не ходила и никаких контактов с другими детьми не имела.
Мальчики ушли играть в другую комнату, и иногда оттуда раздавались их громкие голоса, в основном Валерия, который что-то хотел отобрать у Виктора, а тот возражал. Взрослые сели за стол. Хозяева и гости, как женщины, так и мужчины, пили водку. Под хорошую закуску на Севере ничего лучшего и придумать нельзя. После разговоров на общие темы – о работе и учёбе, о своих любимых детках и денежных проблемах, Лёша решил рассказать о своей поездке на зимовье Боливара. Он восторженно живописал, как его с профессором Прохоровым встретили хозяева дома, какие разговоры они вели во время встречи с этими интересными людьми. Больше всех его рассказ заинтересовал почему-то Илью.
– Слушай, Лёша, а мне кажется, что это редкое имя Боливар я когда-то слышал от своей мамы. Приду сегодня домой и обязательно с ней на эту тему поговорю.
– А давай, Илья, мы как-нибудь съездим с тобой к нему на зимовье. Ты даже не представляешь, как там красиво. Уверен, что тебе понравится. Только нужно заранее с хозяевами договориться. Они далеко не всех принимают в гости.
– Послушайте, молодые люди, – вмешалась в разговор Алиса, – а не кажется ли вам, что хотя бы ради приличия вы и нас с Ленкой должны в этот поход пригласить?
– Да с удовольствием, только ты не cможешь пройти на лыжах до зимовья шестьдесят километров.
– Смогу, – не сдавалась Алиса.
– Хорошо. А на кого мы оставим Витюшу?
– Тётю Клаву попросим, – подхватила Лена. – Думаю, что большой разницы нет, с двумя детьми сидеть или с тремя.
– Ладно, не кипятитесь, девочки. Давайте подождём, что скажет по этому поводу сама тётя Клава.
12.2
Вечером, вернувшись от Соловьёвых, Илья сразу спросил у Клавы:
– Мама, а тебе знакома такая фамилия – Боливар.
– Конечно, знакома. Его вся тундра знает. Тундра маленькая. А он добрый и умный человек. Всегда всем, если может, помогает. Никому никогда не отказывает.
– А когда ты с ним встречалась?
Клава тяжело опустилась на стул.
– Извини, сыночек. Что-то нехорошо мне стало. Сейчас пройдёт. Подай вон тот ларец, который на верхней полке стоит. Только осторожно, смотри не урони.
В этой простой деревянной коробочке Клава хранила всё, что связывало её с прошлой жизнью: клык волка, маленькую глиняную куколку с отбитым носом, иголку от шприца, пачку каких-то бумаг, схваченных резинкой. Ларец она открывала очень редко – не хотела, по всей видимости, ворошить воспоминания.
– Сядь, Илюша, рядом со мной. Хочу кое-что тебе рассказать. Папа у тебя, ты знаешь, рано умер. Как вышел из лагеря, только шесть лет и прожил. Всё время болел. Он и так-то не богатырского здоровья был, так его ещё одна сволочь в лагере доконала. А когда у него рак мозга нашли, тебе только четыре года было. В Норильске пытались его лечить, и в Красноярск мы ездили, но всё без толку.
Клава краешком платка вытерла навернувшиеся на глаза слёзы.
– В ларце, сыночек, как мне твой папа перед смертью сказал, есть три важные бумаги. Он даже их цифрами пометил, чтобы легче было найти. Бумаги о его болезни. Вот это первая – справка. Её папе дал доктор Фёдоров, когда он ещё в лагерной больнице лежал.
Клава вытащила из пачки бумаг два листика, заполненных убористым почерком. Вверху на первом листе было написано: «Заключение по осмотру больного Золотого Ф. Л. комиссией в составе главного врача Норильской поселковой больницы Фёдорова В. А. и начальника медицинской части Фомина Н. И.». Внизу второго листа, кроме подписей, стояла дата – 28 мая 1953 года.
– А вот бумаги под номером два. Их нам дали в Красноярской больнице, куда папу положили благодаря помощи его названного брата, Валерия Николаевича Хохлова. Папа в этой больнице лежал больше месяца, а я всё время рядом с ним была. Тебя бабушка забрала к себе в стойбище на всю зиму. Смотри, тут всякие анализы, заключения разных врачей. Целая книга. А мне врачи на словах сказали: давай, вези мужа назад. Больше, чем полгода, ему не жить.
– А дальше что было? – спросил Илья.
– А дальше я пошла за помощью к нашему шаману. Деньги ему дала и всё такое. Только папе лучше от этого не стало. И вот тогда бабка Дарья из стойбища шепнула мне по большому секрету адресок Боливара. Сказала, что только он может помочь моему горю. Второго такого человека в тундре и сыскать нельзя.
12.3
Прошло много лет с тех пор, как Клава возила мужа к Боливару, но этот день она запомнила до мельчайших подробностей. Сначала Клава думала взять с собой сына, но потом решила оставить его у матери. Правда, мать была уже совсем старая – засыпала на ходу и ничего не помнила. Единственная надежда была на собаку Ветру, которая, если что, приглядит за ребёнком. Во всяком случае, не позволит ему выйти из чума на улицу и защитит от всех бед.
Клава запрягла в нарты восемь собак, с учётом того, что на обратной дороге нужно будет поменять уставшую первую пару на последнюю. Путь до зимовья был неблизкий – около двухсот километров в одну сторону. Больного мужа она посадила сзади спиной к спине и привязала к себе широким тёплым платком. День был морозный, но безветренный, так что особых проблем с поездкой не ожидалось.
Заслышав приближающиеся нарты и крик ездового, на крыльцо зимовья вышел довольно молодой мужчина.
– Здравствуйте, добрые люди. Кто вы и зачем сюда пожаловали?
– Муж у меня сильно болеет. Бабка Дарья сказала, что один Боливар может ему помочь.
– Подождите, я сейчас спрошу Александра Николаевича, будет он с вами говорить. – Мужчина ушёл в дом и скоро вернулся. – Заходите, но придётся немного обождать. Боливар сейчас обедает.
Когда Клава, поддерживая Файвуса, зашла внутрь дома, навстречу им из-за стола поднялся мужчина постарше с аккуратно подстриженной седой бородой.
– Доброго дня, уважаемый. Извиняйте за вторжение, – приветливо обратилась Клава к хозяину дома.
– Здравствуйте, присаживайтесь. – Мужчина поздоровался за руку с Клавой и Файвусом. – Чем могу быть полезен? Как вас звать? – участливо спросил он гостей.
– Клава. А мужа моего зовут Файвус, – ответила за двоих женщина. – Он был самый умный в норильском лагере. Умел заранее определять погоду. Все его всегда слушали. Даже большие начальники. А сейчас он головой болеет. Врачи говорят, что жить ему осталось полгода. А бабка Дарья сказала, что вы сможете его вылечить.
– Ну, если бабка Дарья сказала, это серьёзно, – усмехнулся Воронов. – Однако, дорогие гости, учтите, что я не врач и не колдун. Чудеса творить не умею. Просто постараюсь поговорить с вами, после чего вы уж сами выберете путь своего лечения. А теперь, Файвус, поясните, пожалуйста, что имела в виду ваша жена, когда говорила о погоде?
– Я умел предсказывать погоду. Не знаю, как, – просто чувствовал. Про¬фессор Буров, говорил, что я обладаю редкими паранормальными способностями. Обладал… Потому что после травмы головы я эту способность потерял, и болеть начал сильно.
– Теперь мне более или менее понятно, о чём идёт речь.
12.4
Воронов взял стул и сел поближе к Файвусу.
– Итак, значит, профессор Буров сказал вам, что вы умеете делать то, чего больше никто не может?
– Да. Именно так.
– Следовательно, можно предположить, что вы, в отличие от других людей, можете и вылечить себя сами. Вы можете, а они нет. И это мы постараемся использовать для вашего блага.
– Это каким же образом?
– Не знаю, — ответил Александр Николаевич, — но залог любого успешного действия в психиатрии – это, прежде всего, позитивное отношения к данному действию заинтересованной стороны.
– Мудрёно звучит.
– Согласен. Но вы же заинтересованы в своём выздоровлении?
– Конечно. Поэтому и приехал к вам с женой за столько километров.
– А скажите, Файвус, в результате чего произошла ваша травма?
– Меня в лагере сильно избил охранник. Я после этого много месяцев был в коме, без сознания.
– Понятно. Я, уважаемый, в молодости увлекался психологией. Эта наука гласит, что человек может успешно заниматься мыслительной деятельностью в холоде, голоде, в условиях других жизненных неудобств. Единственное, когда он не может этого делать, так это в состоянии попрания его человеческого достоинства. Понимаете, о чём я говорю?
– Не совсем.
– Вас не только избили. Вас сильно унизили. Это причина того, что вы потеряли свои уникальные способности.
– И что же мне делать?
– Нужно постараться заново запустить те процессы, которые происходили в вашем сознании до избиения. В этом случае должна произойти регенерация вашей мозговой деятельности. Другими словами, вам необходимо самостоятельно, любым возможным способом восстановить своё эго.
– Вы в этом уверены, доктор?
– К сожалению, нет. И я не доктор. Но мне кажется, что только так может произойти замена поражённых клеток мозга новыми, а главное – здоровыми. Это будет ваша и только ваша победа. Вы будете гордиться собой, и к вам вернётся многое из того, чем наградила природа.
– Значит, вариантов лечения с помощью каких-либо медикаментов не существует?
– Думаю, что нет. Перестаньте вообще принимать таблетки и займитесь укреплением своего физического и умственного здоровья всеми известными вам способами.
– Какими?
– Ну, не знаю – закаливанием, ходьбой, физическими упражнениями, домашней работой. Больше читайте, общайтесь с людьми. Не затворничайте. Поймите, Файвус, вам нужно заставить весь свой организм работать на больной орган. Активизировать все свои физические и умственные ресурсы, а не бросать этот орган в беде одного, прикармливая никому не нужными таблетками. Человек – гениально сбалансированная природой система и вам необходимо мобилизовать все элементы этой системы на борьбу за свою жизнь.
12.5
– Вот, сыночек, смотри. Это третья бумага. Свой разговор с Боливаром папа по памяти записал. Я видела, как он эту бумагу много раз переписывает. Зачем, не знаю. А когда закончил, то сверху написал для меня большими буквами: «Клаве!».
– А что, мама, ты это сама когда-нибудь читала? – спросил Илья.
– Нет, никогда. Я же читать только по складам могу. А тут видишь, как всё сложно написано.
Весь оставшийся вечер Илья думал об отце и его письме, которое он, будучи смертельно больным, написал своей любимой жене, заранее при этом зная, что она никогда его не прочтет. По существу он писал это уникальное письмо «в стол», в никуда. А для этого нужно быть очень сильным и мужест¬венным человеком. Но ведь папа, как рассказывала мама, был слабым и мнительным. Значит, в конце концов, у него произошла в организме перестройка. Спасибо маме, что она сохранила этот документ. Потому что, может быть, папа писал свое письмо, думая и о нем, его сыне…
На следующий день Илья прямо с утра позвонил Алексею, но его уже не было дома. Желание поговорить об отце и Боливаре было настолько сильным, что Илья позвонил Лёше в деканат. Раньше он никогда этого не делал, но откладывать разговор до вечера у него просто не было сил.
По телефону ответила секретарь.
– Соедините меня, пожалуйста, с Алексеем Натановичем. – В трубке через минуту зазвучал голос Алексея.
– Лёша, привет.
– Привет.
– Я вчера оказался прав. Мама, когда заболел папа, встречалась с Боливаром. Есть даже по этому поводу интересные бумаги. Слушай, а давай сегодня вечером встретимся. Когда ты будешь дома?
– Часов в восемь. Подходите.
– Договорились. Придём.
Лекция, деканатские дела, совещание у проректора отвлекли Алексея Натановича от утреннего разговора с Ильёй. Только около шести часов он вспомнил, что пригласил на вечер гостей и спешно набрал номер домашнего телефона.
– Алиса, сегодня вечером к нам снова придут Илья с Леной. Какую-нибудь закуску можешь сообразить?
– Хорошо, только у нас выпить нечего.
– Я зайду в магазин, когда буду возвращаться домой, и что-нибудь куплю. Может, ещё что-нибудь, кроме выпивки?
– Нет, больше ничего не надо. У нас всё есть. Хотя… Купи две баночки майонеза.
Неожиданный звонок Ильи заинтриговал Алексея. За годы, проведенные в Норильске, он уже хорошо его узнал. Серьёзный и ответственный парень, получивший уникальное воспитание в ненецком стойбище и советском интернате, честный человек и преданный друг.
12.6
Илья и Лена пришли к Соловьёвым точно в восемь. Алиса высунулась из кухни и помахала гостям рукой, а Илья, ещё не успев толком раздеться, потащил Алексея в другую комнату.
– Лёша, я сегодня ночью почти не спал. Вчера вечером мама показала мне папины бумаги и рассказала об их встрече с Боливаром. Боливар – удивительный, потрясающий человек. Ты должен срочно познакомить меня с ним. Он, оказывается, встречался с моими родителями и даже пытался вылечить моего отца. В общем, благодаря удивительным советам Боливара папа прожил ещё больше года.
– Подожди, Илья, не торопись. Зачем так срочно-то?
– Ну, во-первых, поблагодарить за отца. А во-вторых, очень хочется самому посмотреть на этого человека.
– Согласен. Но я уже говорил, что к нему так просто не попасть. Нужно пройти фильтр, который называется Адель. Это, как бы сказать, его секретарь и близкая подруга.
– Ну, так позвони ей.
– Хорошо. Завтра позвоню и попробую договориться о встрече.
– А сейчас позвонить нельзя?
– У неё нет домашнего телефона. Придётся потерпеть до завтра.
Алексею и самому хотелось снова побывать на зимовье. Окунуться в редкую обстановку доброжелательности, культуры и ума. Но часто просить об этом профессора Прохорова было неудобно. Он и так уже два раза прихватывал его с собой. Оставалось договориться с Аделью напрямую, объяснив целесообразность посещение зимовья Ильёй.
Разговор Соловьёва с Аделью вышел непростым. Она никак не могла взять в толк, зачем Алексей тянет с собой в гости к Боливару ещё какого-то человека.
– Алексей Натанович, по моему разумению, лично вас пригласил профессор Прохоров, обговорив заранее это с Александром Николаевичем. Молодой талантливый учёный, приехал из Москвы, учился в МВТУ имени Баумана. Декан большого факультета. А здесь, извините, кто? Кто этот молодой человек и чего он хочет от Александра Николаевича? По какому случаю будет банкет?
– По случаю того, что Александр Николаевич когда-то встречался с отцом этого молодого человека. Он, кстати, был уникальной в своем роде личностью. И, благодаря рекомендациям Воронова, прожил – вопреки прогнозам врачей – в два раза дольше, чем они ему прочили. Думаю, что Александру Николаевичу самому будет интересно услышать всё это из уст его сына.
– Ладно. Уговорили. Приезжайте со своим другом на зимовье в воскресенье часам к двенадцати. Кстати, как фамилия вашего друга?
– Золотой. Илья Золотой.
– Очень красивая фамилия. Ну, пока. До воскресенья.
Сначала Илья не хотел говорить маме Клаве, что собирается в гости к Боливару. Боялся, что опять растревожит ее воспоминаниями о прошлом. Но потом всё-таки решил сказать.
– Не может быть, – всплеснула руками Клава. – Вот это да! Ты ему, Илья, всё расскажи, как отец вспоминал о нём перед смертью. И обязательно записи ему покажи, которые отец делал. А еще поблагодари его от меня за то, что своим добрым словом он подарил ему целый год жизни. А я сейчас пирогов для него напеку. Наших, эскимосских. Пусть он всех своих гостей ими угостит.
12.7
О том, что в институте сменился ректор, Алексей Натанович узнал, отдыхая на черноморском побережье Кавказа. Приехал один знакомый из Норильска и сообщил ему эту неожиданную новость. Рассказывал приятель легко, между делом, не сознавая, какими последствиями это грозит Норильскому технологическому институту. Позднее, вернувшись в Норильск, Соловьёв узнал, что Министерство высшего образования РСФСР удовлетворило просьбу ректора Тихомирова и освободило его от занимаемой должности по собственному желанию. А «в целях оздоровления обстановки в институте» на должность ректора был назначен доктор химических наук, профессор Сергей Викторович Хромов. Проректором института по учебной работе остался доцент Семён Владимирович Козлов.
Алексей Натанович сразу вспомнил свою беседу с Боярским, которую тот проводил с ним по поручению Норильского горкома партии. Тогда на вопрос Боярского, что он думает о кандидатуре ректора технологического института, Соловьёв от ответа ушёл. А зря. В результате осуществился самый худший сценарий из тех, которые могли бы быть. Мало того что городские власти выразили институту полное недоверие, не найдя в коллективе вуза подходящую кандидатуру на эту ответственную должность, они ещё пригласили «варяга», который понятия не имеет, чем дышит это непростое образовательное учреждение на Крайнем Севере. Ректором должен быть человек, который хорошо знает институт, его историю, имеет достаточный опыт работы в нём. А приглашённый ректор по определению является инородным телом, которое, конечно, имеет шанс прижиться, но может быть и напрочь отторгнуто из организма института.
И вот Алексей Натанович уже несколько часов сидел на берегу моря, ведя нелегкий разговор с самим собой. Задавал себе каверзные вопросы и сам пытался на них ответить. Прежде всего, ему хотелось понять, что это за человек, который не побоялся совершить заведомо авантюрный шаг и согласился стать ректором совершенно незнакомого ему вуза. Чем он руководствуется, какие цели преследует, занимая столь ответственную должность? На что надеется, а главное – на кого? Для того чтобы эффективно работать в должности ректора, нужна своя команда. А где её взять? Здесь может быть несколько вариантов. Первый вариант – это привезти свою команду за собой. Но для условий Норильска это маловероятно. Во-первых, нужно подготовить плацдарм для высадки «десанта», создав вакантные места путём увольнения старых работников. А во-вторых, добиться выделения квартир для новых преподавателей, преодолев проблемы острого дефицита жилья в Норильске. Второй вариант – это подобрать себе команду из числа сотрудников Норильского технологического института, которые всё и всех знают. Но здесь существует опасность, что он попадёт в сети, расставленные ловкими и не всегда порядочными людьми, которые в таких случаях обычно первыми приходят «на помощь». Есть ещё и третий вариант – ничего не делать. Оставить всё как есть. Но, по существу, это не вариант, если новый ректор намерен выполнить задачу, которую поставили перед ним городские власти и министерство при назначении на должность.
Прождав мужа в санатории до вечера, Алиса пошла искать его на берег моря и нашла в глубоком раздумье.
– Соловей, ты чего тут сидишь, нахохлившись? Небось, замёрз уже. Идём в санаторий.
– Ты знаешь, Алиска, новый ректор образовался в нашем институте.
– И что? Какие у тебя заботы по этому поводу?
– Может, я ему не понравлюсь?
– Чего? Это он тебе должен понравиться, а не ты ему. Он только заходит в игру, а ты уже давно играешь на этом поле. Тоже мне, умник. Всё. Идём домой, а то ты ещё что-нибудь надумаешь.
12.8
Завтра начинался новый учебный год, а сегодня перед студентами первого курса должен был выступить с приветственным словом новый ректор института профессор Хромов. Об этом оповещала большая афиша, которая уже несколько дней висела на доске объявлений при входе в Норильский технологический институт.
Алексей Натанович зашёл в актовый зал за несколько минут до начала собрания и сел на свободное место среди студентов. Ему предстояло впервые увидеть своё новое начальство. В предыдущие годы на таких мероприятиях ректор института представлял первокурсникам деканов факультетов. Сегодня, похоже, всё могло пойти по-другому. Соловьёв приготовился просто слушать.
Ровно в двенадцать часов дня в актовый зал вошёл крепкий, невысокого роста мужчина лет пятидесяти в сопровождении проректора по учебной работе Козлова и ответственного секретаря приёмной комиссии Мироновой. Они быстро расселись за столом на сцене, и Миронова открыла собрание.
– Дорогие первокурсники, завтра наступит новый, самый интересный период в вашей жизни. Вы станете студентами самого северного в мире вуза. Хочу пожелать вам крепкого здоровья и успехов в учёбе. А сейчас слово предоставляется ректору Норильского технологического института профессору Сергею Викторовичу Хромову.
Выступление ректора прозвучало как-то слишком буднично и неярко. Он поздравил новоиспеченных студентов с поступлением в институт, пожелал всем успехов и ушёл. После этого слово взял проректор по учебной работе Козлов. Он довольно подробно рассказал о структуре института, факультетах, специальностях, а главное – представил присутствующих в зале деканов, предложив им встать, чтобы их все увидели.
После собрания Алексей Натанович, нигде не задерживаясь, прошёл сразу в свой кабинет. В деканате всё было чисто и аккуратно. Методист факультета Ольга Владимировна была на своём рабочем месте. В этом году она не уходила в отпуск летом и подготовила к его приходу справку о новом наборе студентов.
Через пятнадцать минут раздался телефонный звонок. Секретарь ректора Лиза пригласила декана энергомеханического факультета Соловьёва к 16 часам на встречу с новым ректором Норильского технологического института профессором Хромовым.
12.9
В назначенное время Алексей Натанович был в приёмной ректора. Сначала он немного волновался, но потом, вспомнив слова жены: «Не ты ему должен понравиться, а он тебе», – успокоился. В приёмной уже сидели и ждали приглашения в кабинет ректора остальные деканы факультетов. Факультетов в институте было четыре: два дневных – энергомеханический и горно-металлургический, один вечерний и один заочный. Деканом горно-металлур¬гического факультета был кандидат технических наук, доцент Степан Степанович Волобуев, высокий грузный мужчина лет сорока пяти. Студенты за глаза называли его Стёпой. Он, естественно, знал об этом, но не обижался. Добрый, а точнее сказать, мягкотелый, Стёпа никогда никому ни в чём не отказывал – ни преподавателям, ни студентам, подписывая все бумаги. Даже экзамены принимал, не ставя ни одной двойки. В разговорах с коллегами часто хвастал, что у него в институте все друзья и он может решить любую проблему. Алексей Натанович старался поменьше общаться с Волобуевым, считая его слабым деканом, недобросовестно исполняющим свои обязанности. Деканат не та инстанция, где всех надо «гладить по шерсти», как говорил ему, когда он заходил на должность, профессор Прохоров. Иногда требуется и «против», хотя это и чревато. И тем не менее Алексей Натанович старался ни в ка¬кие дебаты со Степаном Степановичем не вступать. При этом все показатели на факультете у Волобуева были всегда лучше, чем на параллельном.
Деканом вечернего факультета была кандидат химических наук, доцент Маргарита Григорьевна Королёва. Ей, как и Алексею Натановичу, не нравилась манера Волобуева общаться запанибрата со всеми и вся, на что она ему неоднократно пеняла. Степан Степанович с Маргаритой Григорьевной не спорил, но поведения своего не менял. Деканом заочного факультета, самого большого в институте по количеству студентов, был старший преподаватель Борис Петрович Фомичёв. Одинокий, очень нервный больной мужчина предпенсионного возраста. Кроме своих бумажек – ведомостей, разрешений, контрольных работ, методических указаний – он знать ничего в жизни не хотел.
В своем кабинете новый ректор встретил деканов факультетов, стоя за своим рабочим столом.
– Садитесь, товарищи, – жестом указал он на стулья вдоль стены. Все деканы сели, но ректор продолжал стоять. То ли уже насиделся, то ли хотел сразу показать, кто здесь хозяин, но за время своего короткого выступления так и не присел. Говорил ректор чётко, отрывисто, без интонаций и намёка на улыбку.
– Назначен ректором Норильского технологического института. Хромов Сергей Викторович. Доктор химических наук, профессор. Ректор познакомился с каждым из вас по личным делам. Если будет желание встретиться в приватной беседе, пожалуйста, обратитесь к секретарю. Она назначит вам время. Вопросы есть – задавайте.
– Скажите, пожалуйста, Сергей Викторович, – поднялась декан вечернего факультета Королёва, – будет ли проводиться традиционная планёрка по понедельникам?
– Нет, не будет. У каждого из нас свой график работы. Незачем всех собирать на ненужные посиделки. Всё будет решаться в индивидуальном порядке. Ещё есть вопросы?
– Есть, – снова откликнулась Маргарита Григорьевна. – В субботу утром мы хотим провести собрание студентов первого курса вечернего факультета. Вы будете принимать в нём участие?
– Нет, не буду. Проводите собрание без меня. Все свободны.
12.10
Соловьёв вышел с совещания в некотором смятении. Причину своего состояния он сначала связал с отказом ректора проводить планёрку, на которой ставились и обсуждались насущные общеинститутские проблемы. А потом понял: его задело не это. Его поразило то, что новый ректор говорил о себе в третьем лице, тем самым выстраивая невидимую стену между собой и подчинёнными. Своим коротким выступлением он сразу дал понять деканам факультетов, что им следует работать в автономном режиме, не отвлекая его от управления институтом в целом. В принципе, такой подход к решению вопросов на факультете Алексея Натановича вполне устраивал. Он и раньше не бегал в ректорат советоваться по каждому поводу. Но новый ректор, к сожалению, упразднил планёрку, на которой можно было обсудить принимаемые решения, получить замечания и учесть их в дальнейшей работе. Кроме того, планёрка позволяла быть в курсе того, что делается на других факультетах, сверять правильность своего курса и не допускать ошибок.
Первое впечатление о Хромове как неприветливом замкнутом человеке со временем только усилилось. Да и внешне он не являл собой пример для подражания. В мятом пиджаке, давно не глаженных брюках, он стремительно перемещался по институту, кивком головы отвечая на приветствия, никому не улыбаясь, ни с кем не разговаривая. Заскакивал к себе в кабинет и сразу вызывал секретаря. Создавалось впечатление, что только за стенами своего кабинета он чувствует себя уютно и старается поменьше из него выходить.
Фигура нового ректора вообще была окутана каким-то таинственным флёром. Кроме того, что он доктор химических наук, никто о нём ничего не знал. В горкоме партии и на комбинате наверняка было больше сведений, но это были инстанции, которые не допускают утечки информации.
Трудно было понять и поведение Хромова: то ли у него такой характер, то ли он просто не знал, с какого края начать кусать этот огромный кусок пирога под названием Норильский технологический институт. Но его нервное состояние как руководителя, вольно или не вольно, передавалось коллективу и формировало общий неблагоприятный фон. В Норильском институте наступила какая-то зловещая, не предвещающая ничего хорошего, тишина.
12.11
И тут в советской стране грянула Перестройка, причём с ускорением, как трубили на всех перекрёстках глашатаи этих эпохальных событий. Ректор Норильского технологического института поспешил в Москву и через неделю привёз оттуда «убойные» новости. Оказывается, студент – это самостоятельный взрослый человек и, в соответствии с этим, институт кураторов групп нужно упразднить. Более того, посещение студентами занятий совсем не обязательно. Студент может сам выбирать, какие дисциплины ему следует изучать, а какие игнорировать. А это уже ставило под сомнение необходимость тщательного исполнения учебных планов специальностей.
В разговорах преподавателей начали появляться новые для советских вузов иностранные понятия – бакалавр и магистр. Как выяснилось позже, информация о них была «вброшена» в коллектив также вернувшимся из столицы ректором. А через некоторое время Хромов решил провести по этой теме совещание и пригласил к себе деканов факультетов. Предваряя обсуждение, он дал небольшую справку.
– В настоящее время в Министерстве высшего и среднего образования СССР обсуждается целесообразность перехода отечественного образования на европейскую модель, предусматривающую два уровня: бакалавриат – с продолжительностью обучения 4 года, и магистратуру – с продолжительностью обучения 6 лет. Этот переход, безусловно, вызовет изменения на всех этапах среднего и высшего образования в стране. И мы должны быть готовы к этому переходу.
Закончив своё выступление, ректор выразительно посмотрел на присутствующих. Первым на информацию среагировал декан заочного факультета Фомичёв.
– Я не знаю, есть ли в Европе заочное образование или нет, но у меня к вам, Сергей Викторович, личная просьба: не вводите никаких новшеств на заочном факультете. Люди на Севере и так учатся, надрывая жилы, а здесь нужно будет ещё к чему-то новому приспосабливаться.
Зато, как можно было ожидать, идею перехода на новые уровни образования активно поддержал декан горно-металлургического факультета Волобуев. Степан Степанович заверил ректора, что, если будет нужно, он мобилизует на выполнение этой задачи весь факультет.
После Волобуева поднялся декан энергомеханического факультета Соловьёв.
– Мне представляется, что нашему институту целесообразно обсуждать любые изменения в системе образования только вместе с Норильским комбинатом. Это раз. Второе. Необходимо в обязательном порядке принять во внимание, что у нас, в отличие от стран Европы, совсем другая подготовка детей и юношества, начиная с детского сада и заканчивая школой. Да и студенты нашего института по многим параметрам отличаются не только от западных, но и от «материковых» вузов. И, наконец, третье. Новая образовательная система предполагает свободное распределение специалистов, в то время как мы работаем для Норильского комбината. При участии комбината составляются учебные планы всех специальностей, в них вносятся дополнительные дисциплины, учитывающие специфику производства на Крайнем Севере.
– А что вы думаете по этому поводу, Маргарита Павловна, – обратился ректор к декану вечернего факультета Королёвой.
– Я против этих новшеств, так как не вижу смысла в подготовке недоношенных или переношенных специалистов, как бы красиво они ни назывались. Мне представляется, что наиболее разумной системой подготовки специалистов в технических вузах является форма с равной долей теоретического и практического обучения, которую мы успешно используем в настоящее время на вечернем факультете.
– Ну что ж, спасибо, – подвёл итог совещания ректор, убедившись, что три декана – Фомичёв, Соловьёв и Королёва – были явно против этого нововведения. – Вынесем, когда подойдёт время, данную серьёзную тему на заседание Учёного совета института. А пока все свободны.
12.12
Обещание своё ректор выполнил, и на одном из ближайших заседаний Учёного совета был поставлен вопрос о новых формах обучения студентов в Норильском технологическом институте. Открыл заседание Совета сам Хромов:
– Уважаемые товарищи, в настоящее время в нашей стране идёт подготовка к переходу высшей школы на европейскую систему обучения студентов, предусматривающую двухступенчатое образование с выпуском бакалавров и магистров. Не скрою, что рассмотрение этого вопроса на совещании деканов факультетов нашего института месяц назад закончилось неоднозначным решением. Поэтому я посчитал целесообразным поставить обсуждение этого важного и актуального вопроса на Учёном совете нашего института. В работе Учёного совета принимает участие и представитель Норильского комбината, который, думаю, тоже выскажет своё мнение.
Представителя Норильского комбината пригласил проректор Козлов, которого на комбинате хорошо знали. Об этом он сообщил ректору буквально перед началом заседания:
– Сергей Викторович, я позвонил сегодня на комбинат и сообщил о заседании Учёного совета.
– Зачем? Вопрос сугубо институтский, и Норильский комбинат не имеет к нему никакого отношения.
– Еще как имеет. По большому счёту, мы готовим инженерные кадры для Норильского комбината, и без его поддержки и помощи нас бы уже давно закрыли.
– За помощь мы всегда благодарны, но до выпуска специалистов нам ещё нужно дожить. Мы только в самом начале перестройки вузовского образования в стране. Кстати, я ещё не слышал вашего мнения, Семён Владимирович, по данному вопросу – как проректора по учебной работе.
– Я его обязательно сформулирую в самое ближайшее время. Мне ещё нужно кое над чем подумать.
– Ну, вот когда сформулируете своё отношение, тогда и поговорим. А сейчас идёмте на заседание. Люди уже ждут.
Расчёт проректора Козлова был понятен и прост: Норильский технологический институт исторически всегда имел две точки опоры – Норильский комбинат и Министерство высшего образования РСФСР. Козлов прекрасно понимал, что Норильский институт должен выполнить поручение министерства в любом случае, но если Норильскому комбинату эти новации не понравятся, то институт ждут очень нелёгкие времена.
Первым в прениях попросил слово главный бухгалтер института Василий Петрович Полозков:
– Я работаю в Норильском технологическом институте уже много лет. Начинал ещё во времена техникума, когда вокруг была зона. Так вот. Я думаю, то, что хорошо для московских институтов, нам может просто не подойти. Задача, которую поставило министерство перед всей высшей школой, заключается в унификации системы обучения в нашей стране и за рубежом. Понят¬но, что у них, в Европе, всё должно быть едино, а нам зачем? Но я не об этом. На Западе учебные заведения живут на другие деньги. У нас денег катастрофически не хватает. В особенности на науку, новую технику, лабораторное оборудование. То, что мы получаем от Министерства высшего образования – это слёзы. Мне представляется, что нужно прежде всего подсчитать, сколько эти преобразования будут стоить, а уже потом что-то обсуждать. У меня всё.
После главного бухгалтера слово попросил заведующий кафедрой механического оборудования профессор Борис Валентинович Дронов.
– Я не знаю, зачем нам нужна новая система обучения. Мы один из немногих вузов страны, где в структуре института есть среднетехнический факультет. Таким образом, половину задания министерства, то есть бакалавриат, Норильский институт выполняет даже более эффективно, чем это делают европейские вузы. А что касается магистратуры, то здесь нужно хорошо подумать, а не слепо следовать за вузами «материка». Спасибо.
Следующей слово взяла декан вечернего факультета Маргарита Григорьевна Королёва.
– Я полностью согласна с профессором Дроновым. По вопросу подготовки техников в нашем институте, или, если угодно на иностранный манер, бакалавров, мы давно впереди колонны всей. Теперь в отношении специалистов. По вечернему факультету мы традиционно имеем 6-летнее обучение. То есть тоже формально выполняем программу магистратуры, а фактически работаем по заявкам Норильского комбината. Все наши учебные планы согласовываются с научно-техническим управлением комбината и отраслевыми специалистами. Если что-то в этих планах не так – мы их меняем. Нужно всегда идти от производства к образованию, а не наоборот. Пригласите, Сергей Викторович, инициаторов этой реформы к нам в институт. Мы им всё с удовольствием покажем и расскажем.
Было заметно, что от последнего предложения Королёвой ректору Хромову стало даже как-то не по себе. Но его, как всегда, выручил декан горно-металлургического факультета доцент Волобуев.
12.13
Степан Степанович начал пафосно:
– Товарищи! Мы работаем на норильский земле рядом с трижды орденоносным Норильским комбинатом и должны соответствовать этому обстоятельству, используя передовые методы подготовки кадров в нашем институте. То, что рассказал нам сейчас ректор института профессор Хромов, исключительно интересно. Мы обязаны поддержать предложения Министерства высшего образования по изменению системы обучения студентов. Пока предложения, которые озвучил Сергей Викторович, являются проектом. Но когда нам придёт приказ министра, инициативу проявлять будет уже поздно. Считаю целесообразным создать комиссию с участием представителей Норильского комбината для разработки и обоснования условий перехода нашего института на двухуровневую систему подготовки специалистов.
– Кто ещё желает выступить? Активней, товарищи, активней, – воодушевлённый выступлением Волобуева, поторопил присутствующих ректор. – Алексей Натанович, а вы не хотите сказать несколько слов?
– Хочу. – Декан Соловьёв тяжело поднялся из-за стола. Он был необычно бледен и взволнован. – Я категорически против новой системы обучения студентов. Более того, считаю, что она совершенно не подходит Норильскому технологическому институту. Я шесть лет учился в МВТУ им. Баумана и не вижу никакого резона обзывать годы моей учёбы магистратурой. От этого ничего по сути измениться не может. Что коренным образом может улучшить качество подготовки специалистов в нашем институте, так это трансформация дневной пятилетней формы в вечерне-дневную сроком обучения в шесть лет. Причем, стипендию от государства студенты будут получать только на двух первых курсах дневной формы обучения. На остальных четырёх, вплоть до защиты дипломов, студенты должны совмещать учёбу в институте с работой на комбинате и будут за это получать заработанную плату. Без пустых, никому не нужных ежегодных практик с отвлечением на их руководство работников комбината и института.
Алексей Натанович сделал паузу. Его никто не торопил. Все тихо сидели и ждали продолжения выступления.
– Я беру на себя смелость заявить, что в любом техническом вузе страны инженерные кадры нужно готовить не «в белый свет как в копеечку», а под определённого заказчика. Для этого по рекомендации заказчика в учебный план специальности должны вноситься соответствующие дополнения и изменения. Не должны выпускники, которым читали, например, спецкурс по эксплуатации механизмов и машин в условиях Крайнего Севера, ехать на работу в Казахстан. Это смешно и грустно. Студенты обязаны возвратить государству – в лице, например, Норильского института – все затраты на их подготовку. А у нас это, не будем забывать, умножается еще на северный коэффициент. Далее. Должно быть полностью изменено отношение к агитационно-разъяс¬нительной работе, которая ведётся, как правило, халтурно и бездарно. Следствием этого является возникновение совершенно непонятных, а порой вредных разговоров о престижных и непрестижных специальностях. Кстати, на последних держится любое государство. Убеждён, что вечерне-дневная «осмысленная» система обучения даст возможность студентам приобрести к моменту окончания вуза настоящий производственный опыт и защищать не липовый, а реальный дипломный проект.
После выступления Соловьёва слово попросила представитель Норильского комбината Антонина Петровна Васильева. Впрочем, она только скромно сообщила, что всё услышанное на Учёном совете института доведёт до сведения руководства Норильского комбината. На этом обсуждение первого и главного вопроса повестки дня закончилось, и ректор перешёл к следующему.
12.14
Отношения между ректором Хромовым и деканом Соловьёвым были исключительно натянутыми. Сам Алексей Натанович к ректору не ходил, а тот его демонстративно к себе не приглашал. Хромов последовательно уничтожал то, на что в течение длительного времени было потрачено много сил и здоровья как администрации факультета и преподавателей, так и самих студентов. «Под нож» пошли студенческий факультет искусств, художественная самодеятельность, спортивные секции и кружки. Студенты начали пропускать занятия, во время лекций болтались в коридорах. В институте процветала спекуляция импортными вещами, сигаретами, жвачками. В туалетах на полу валялись окурки и шприцы.
А тем временем страну накрыла антиалкогольная истерия. В Норильске винно-водочные изделия начали продавать в ограниченном количестве и не во всех торговых точках. Появились талоны на алкоголь, а вслед за ними и спекулятивная торговля: приобрести бутылку водки в ночное время можно было у барыг, но за три-пять номиналов её стоимости.
То, что ни один нормальный человек не относился к антиалкогольной кампании с пониманием и уважением, было очевидно. За кличем: «Не пей» – не было никакой альтернативы существования без водки. Просто сказали русскому человеку: прекрати пить, откажись от многовековой традиции, от самого себя. Это всё равно что запретить цыганам петь или индейцам охотиться. Поэтому пить продолжали все, и даже больше прежнего: в гостях, в бане, в ресторане, на природе, на различных больших и маленьких мероприятиях. Запретный плод всегда манит, особенно молодёжь. Это становилось похожим на игру в рулетку – выпить и не попасть в серьёзную неприятность. Появилась такая показушная форма пропаганды, как безалкогольные свадьбы, которые ничего, кроме смеха и брезгливого отношения к ним, не вызвали. На этих свадьбах всё равно все пили, но только уже в туалетах, подсобках, за вешалками или в кустах, принося выпивку с собой. И это при том, что ужесточились меры к распивающим спиртное в поездах, скверах, парках и прочих общественных местах. Задержанные в пьяном виде име¬ли серьёзные неприятности на работе. Их «песочили» на собраниях, лишали премий и льгот, исключали из партии. Студентов отчисляли из учебных заведений.
Официальная торговля спиртными напитками в Норильска начиналась в 14 часов. Однако задолго до открытия магазинов около их дверей, а точнее – решёток, которыми очень скоро стали огораживать специализированные магазины, – выстраивалась длиннющая живая очередь. И в ней вынуждены были стоять не только алкаши и пьяницы, но и нормальные граждане, хотевшие для какого-то события купить выпивку. Люди стояли в мороз и пургу, плотно прижавшись друг к другу, чтобы не замёрзнуть. Выйти из очереди было нельзя – назад не пустят. Занесённая снегом, обледенелая толпа людей, под окрики хамовитых блюстителей порядка, молча ждала, когда им за свои же деньги, заработанные тяжёлым трудом на Крайнем Севере, разрешат пройти внутрь «конюшни», называемой теперь винным магазином. Отстояв на улице несколько часов и продрогнув насквозь, люди, дойдя до стойки магазина, хватали, естественно, столько бутылок выпивки, сколько могли унести с собой, но чаще – сколько им давали. Ни у кого не было сомнений, что страна деградирует, теряет всякие нравственные ориентиры.
12.15
В деканат энергомеханического факультета стали регулярно приходить письма о появлении студентов в нетрезвом виде на улицах, дискотеках, в общественных местах. Пьяных студентов доставляли в милицию и вытрезвитель. Крупно штрафовали. Сообщали об этом в институт, по месту работы родителей, но поток подобных инцидентов не прекращался. За год из Норильского технологического института было отчислено более тридцати человек. Каждый приказ об отчислении студентов за пьянство, подготовленный факультетом, ректор подписывал с разносом деканов и обвинением их в отсутствии серьёзной воспитательной работы.
После очередного крупного разговора с ректором по факту отчисления студента Алексей Натанович пригласил к себе методиста Ольгу Владимировну. Она была в курсе всех событий на факультете, так как готовила проекты приказов. Когда она зашла в кабинет, Алексей Натанович задал ей простой вопрос:
– Как вы считаете, Ольга Владимировна, что заставляет людей напиваться до скотского состояния? Что является побудительным мотивом вести себя подобным образом?
– Мне кажется, Алексей Натанович, что многие этим просто самоутверждаются, желая вызвать у своих товарищей восхищение и дополнительное уважение к себе. Ведь после заявления какого-нибудь молодца: «А мы вчера с Петькой четыре пузыря приняли на грудь, и хоть бы что», – он выглядит в глазах окружающих былинным богатырём. Нужно у пьяниц выбить этот табурет из под ног.
– Ну и как, по вашему мнению, это можно сделать?
– Начав борьбу с алкоголизмом, государству нужно загасить ореол героизма вокруг пьяниц. В этом корень зла, как вы этого не поймёте, Алексей Натанович?
– Так каким же образом это сделать?
– Очень простым. Продавать водку без каких-либо ограничений, круглосуточно, в любое время дня и ночи. А главное, сделать её качественной и дешёвой.
– А вы не боитесь, что народ окончательно сопьётся?
– На начальном этапе такая ситуация может возникнуть. Я этого не исключаю. Но нужно максимально ужесточить меры воздействия на пьяниц, сделав основной акцент не на партию, комсомол и профсоюз, а на семью. Пусть с ними разбираются домашние – жена, дети, внуки. Пусть они создадут своим пьющим родственникам невыносимые условия жизни. Во-первых, государство перестанет обирать семью, в частности детей, путём постоянного удорожания выпивки. А во-вторых, я вас уверяю – далеко не все пьяницы откажутся от семьи.
– Да, но, продавая дешёвую водку, государство потеряет огромные дармовые деньги?
– Ничего страшного, если на первых порах оно что-то даже и потеряет. Хотя, думаю, что нет, так как водка будет продаваться круглосуточно, без перерыва. Но к этой работе должны активно подключиться учёные, медики, психологи, спортсмены, работники культуры и искусства. Это огромная проблема. Проблема всей страны. Следует предложить людям альтернативу: или бутылка без семьи и детей, или интересная жизнь. А не применять к ним всё время репрессивные меры воздействия.
– И откуда, Ольга Владимировна, у вас появились такие глубокие мысли по этой проблеме?
– В результате некоторых размышлений о своей личной жизни.
Ольга Владимировна ушла, а Соловьёв продолжал размышлять об алкогольном терроре, который в очередной раз развязала советская страна против своего народа, и его страшных последствиях.
12.16
Ситуация с нарушением антиалкогольного законодательства продолжала оставаться тупиковой. Не проходило недели, чтобы кто-нибудь из студентов или даже преподавателей не попадал в милицию в связи с появлением на улице в нетрезвом виде. Всё это вызывало у Алексея Натановича внутренний протест, так как сама постановка вопроса – запретить пить водку на Крайнем Севере – была, по определению, абсурдной. Но однажды произошло событие, которое потрясло основы Норильского технологического института. Милиция забрала в вытрезвитель пьяного доцента Коробкова – заведу¬ющего кафедрой, которая непосредственно относилась к факультету Соловьёва.
Когда Алексей Натанович появился на работе, к нему в кабинет сразу же зашла Ольга Владимировна и почему-то шёпотом сообщила:
– Алексей Натанович, ректор всё утро разрывает телефон. Сегодня ночью в милицию попал Владимир Васильевич Коробков. Ректор просил, чтобы вы, как только придёте, сразу явились к нему.
– Я понял вас, Ольга Владимировна, спасибо.
Спускаться на второй этаж, чтобы предстать пред светлые очи ректора Хромова, декан Соловьёв не спешил. Ничего хорошего эта встреча ему не сулила. Он заранее знал, что тот выльет на него ушат грязи. Отношения между ними день ото дня становились всё хуже и хуже. Не далее как на прошлой неделе Алексей Натанович вступил в перепалку с профессором Хромовым, когда на Учёном совете института утверждали план госбюджетных и хоздоговорных научно-исследова¬тельских работ на следующий год. Тогда Соловьёв имел неосторожность заметить:
– Я прошу прощения, но в техническом вузе, коим является Норильский технологический институт, просить финансирование у министерства на госбюджетные работы неперспективно. Общеобразовательные кафедры – высшей математики, начертательной геометрии, химии, физики, общей электротехники – должны участвовать в выполнении хоздоговорных работ, на которые выделяет деньги Норильский комбинат.
Это вызвало бурю негодования у ректора института. Доктор химических наук Хромов камня на камне не оставил от «незрелых рассуждений» кандидата технических наук Соловьёва, который не понимает роли фундаментальных наук в формировании будущего страны. Пока ректор его распекал, Алексей Натанович вспоминал, как сдавал в МВТУ «Теоретические основы электротехники». Читал лекции и принимал экзамен по этой дисциплине доцент Соколов. Строгий, требовательный, бескомпромиссный преподаватель. Он никому не давал никаких поблажек. Когда Соколов ставил студенту двойку и при этом говорил: «Вы, уважаемый, – химик» – это означало, что студент должен менять специальность и переходить на факультет, где «Теоретических основ электротехники» нет.
12.17
Открыв дверь в кабинет ректора, Алексей Натанович сразу понял, что разговор намечается крупный. Видимо, для усиления воспитательного эффекта ректор Хромов пригласил к себе проректора Козлова и секретаря партийной организации института Васильева.
– Я собрал вас, чтобы сообщить пренеприятнейшую новость. Сегодня ночью был доставлен в милицию в пьяном виде заведующий кафедрой нашего института доцент Коробков. Даже не в милицию – в вытрезвитель. С оказанием всех услуг, соответствующих его нетрезвому состоянию. Я думал, что сквозь землю провалюсь, когда утром позвонил заведующий этим учреждением и поставил меня в известность. А теперь я хочу услышать ваш комментарий по поводу случившегося. Начнём, пожалуй, с декана факультета. Алексей Натанович. Прошу.
– Я так же, как и вы, Сергей Викторович, считаю эту ситуацию очень некрасивой.+
– Не некрасивой, а отвратительной, – перебил Соловьёва Хромов. – Продолжайте, Алексей Натанович, только постарайтесь говорить поконкретней, без этих ваших заумных закруглений.
– Да какие уже тут закругления. Думаю, что к доценту Коробкову нужно применить самые строгие меры административного взыскания, которыми располагает институт.
– И какие меры, позвольте спросить, вы конкретно предлагаете?
– Это вам решать, Сергей Викторович.
– Я уже решил, без вашего участия. Доцента Коробкова следует немедленно отстранить от исполнения обязанностей заведующего кафедрой. А в отношении вас, Алексей Натанович – как декана факультета, на котором регулярно творятся подобные безобразия, – хочу услышать мнение проректора Козлова.
По всему было видно, что Хромов намерен, во-первых, быстро дистанцироваться от инцидента с Коробковым и принять упреждающие меры, а во-вторых, оперативно отрапортовать наверх. А главное, и это выглядело совершенно очевидным — история с Коробковым для него очень подходящий повод, чтобы как следует наказать декана энергомеханического факультета Соловьёва.
– Полностью согласен с вашим решением, Сергей Викторович, относительно заведующего кафедрой Коробкова, – начал проректор Козлов. – Что касается Алексея Натановича, то у меня есть предложение заслушать на открытом партийном собрании, если секретарь партийной организации Васильев не возражает, отчёт всех деканов о состоянии учебно-воспитательной работе на факультетах нашего института.
Соловьёв понял, что проректор Козлов, как и прежде, играет в свою непростую игру. С одной стороны, он безоговорочно согласился с предложением ректора, а с другой, старается вывести Соловьёва из-под прицельного удара Хромова, чтобы на всякий случай не потерять доверительных отношений с деканом.
12.18
Лёша с Ильёй предполагали пройти на лыжах расстояние от Норильска до зимовья Боливара за несколько часов, но встречный ветер и сильная позёмка смешали их планы. До цели они с трудом добрались только к двум часам дня.
– Слава советской науке! – приветствовала их Адель. Она первой, как всегда, вышла на крыльцо.
– Здравствуйте! – дружно ответили гости.
– Хотя мой друг не работает в институте, но отношение к науке имеет, – заметил Алексей. – Его жена – моя коллега. Так что общая формулировка принимается.
– Ну, заходите в дом, ученые, – улыбнулась Адель. – Александр Николаевич вас ждёт.
Воронов встретил гостей на пороге большой комнаты.
– Рад вас видеть, Алексей Натанович. А это ваш друг, с родителями которого, как мне рассказала Адель, я был знаком?
– Точно так. Я – Илья Золотой. А мои родители – Клава и Файвус. Вы встречались с ними больше двадцати лет назад.
– Вы молодец, что приехали ко мне. Я вам скажу точно, когда это было. Первый раз – в ноябре 1958 года, а второй – в апреле 1959. Прошло столько лет, но такое не забывается. Ваш отец, Илья, был уникальный, удивительных способностей человек. Ему бы людей учить, а не в лагере сидеть. Да и матушка ваша была интересной женщиной. Помнила всех врачей, которые лечили вашего отца, все диагнозы, выписки, лекарства, хотя грамотой, как я понимаю, владела не сильно. Она, извините, жива?
– Да, жива. И передаёт вам привет.
– Спасибо. Обязательно скажите, что я её хорошо помню.
– А вы знаете, мама показала мне стенограмму ваших с папой разговоров.
– Что вы говорите? А кто же сделал эту стенограмму?
– Папа. Мама хранит её как реликвию.
– Любопытно было бы на неё взглянуть.
– Я вам в следующий раз, если вы меня ещё раз к себе пригласите, обязательно привезу.
– Спасибо заранее. Приезжайте ко мне опять непременно.
– Обязательно приеду.
– А вообще, какая удивительная и интересная штука – жизнь. Всё возвращается на круги своя. Да что же мы всё стоим? Садитесь, пожалуйста, дорогие гости.
Оказалось, что все присутствующие в этот день у Александра Николаевича с большим вниманием стоя слушают разговор между ним и Ильёй. Никто не ожидал, что молодой человек, впервые приехавший на зимовье, вызовет такой повышенный интерес у хозяина дома. Но больше всех был доволен Алексей, что сумел уговорить Адель пригласить его и Илью в гости к Боливару.
12.19
Сам Алексей Натанович приехал сегодня к Александру Николаевичу не только из-за Ильи. У него была своя тема для разговора. Дело в том, что местное телевидение пригласило его поучаствовать в передаче на тему «Самостоятельная работа и её роль в процессе обучения учащихся и студентов». И он хотел услышать мнение людей, не имеющих отношение к образовательному учреждению.
Адель в очередной раз блеснула своими кулинарными способностями. После того как все отдали должное вкусному обеду, Соловьёв спросил у Воронова:
– Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, каков был распорядок дня учащихся вашего лицея в Париже.
– Ничего себе вы задали вопрос, Алексей Натанович! Да на него можно отвечать целый день, ибо это очень интересная, а главное, многоцелевая проблема.
– В таком случае прошу меня извинить – я постараюсь сузить вопрос. Чем отличается, с вашей точки зрения, внеаудиторная работа студентов и учащихся от аудиторной?
– Прежде всего тем, что она выполняется за сеткой обязательных занятий. Например, в нашем лицее учащимся было предложено изучать дополнительно латинский или греческий язык.
– А можно было отказаться?
– Можно. Но вы сразу ограничивали себя в выборе будущих университетских специальностей. Дорога для обучения на юридическом, медицинском или искусствоведческом факультетах для таких учащихся была закрыта.
– Понятно. Но я, Александр Николаевич, хотел спросить вас несколько о другом. Какую, по вашему мнению, нагрузку несёт самостоятельная работа учащегося и студента?
– Очень большую. Без самостоятельной работы дома учащийся или студент не может претендовать на уровень выше среднего. Она даже важнее, чем работа в аудитории, ибо, во-первых, индивидуальна, а во-вторых, выходит, как правило, за рамки обязательной программы обучения. В блок самостоятельной работы у нас входило чтение дополнительной и специальной литературы, решение задач повышенной трудности, переводы с иностранных языков и так далее. Правда, эту работу мы в лицее выполняли под руководством наших же преподавателей. Это очень в жизни многим из моих соучеников помогло.
– Позволю вас перебить, Александр Николаевич, – подключилась к разговору Адель. – Образование может быть книжное и жизненное. Сколько раз, только честно, подсказывал вам правильное решение очередной проблемы Николай, у которого всего четыре класса?
– Вы, голубушка, не путайте жизненный опыт и интеллект, который формируется в результате образовательного процесса. Я определяю интеллект человека не только по тому, что он рассказал, но и на что слегка намекнул. Неважно, анекдот это или случай из жизни. Вот попытайтесь, дорогая моя Адель, сформулировать: что такое «интересная книга».
– Пожалуйста. Это книга, которая вызывает у читателя интерес к чему-то через представленную в ней информацию.
– А я позволю себе вашу формулировку уточнить и дополнить. Интересная книга – это книга, которая вызывает у читателя чувство, что её написали о нём и для него. Вот так.
12.20
– А мне определение Адели больше нравится, – заметил молчавший до этого Илья. – Вот у меня сын в третьем классе учится. Так я открою иногда какой-нибудь его учебник и оторваться не могу. А другой раз открою и сразу закрою, потому что нет никакой информации.
На некоторое время все замолчали, но потом первым снова заговорил Александр Николаевич.
– Глубоко уверен, что самым высокооплачиваемым в системе школьного образования должен быть учитель начальных классов. Он первый принимает эстафету обучения и от него во многом зависит, что получится в конечном итоге из того или иного ребёнка. И, конечно, учитель не должен получать за час своей работы плату, равную стоимости трамвайного билета. В этом случае никакого толку от него ожидать не приходится.
– В высшей школе та же картина, – заметил Алексей Натанович. – Оклад преподавателя растёт не в соответствии с ростом его педагогического мастерства, а в зависимости от получения им учёной степени и звания. А как был он плохой преподаватель, так и продолжает им быть, независимо от уровня защищённой диссертации.
– В каком смысле плохой? – спросил Александр Николаевич.
– В прямом. У нас в МВТУ в течение полного учебного года, два семестра, лекции по спецкурсу читал доцент Чумаков. Потом он защитил докторскую диссертацию. А студенты как не ходили к нему на лекции, когда он был кандидат наук, так и продолжали не ходить, когда стал доктором. Он со временем и звание профессора получил.
– Мой наставник в лицее, — заметил Александр Николаевич, — любил повторять одну интересную фразу: масштаб личности определяется не количеством барьеров, которые человек преодолел в своей жизни, а их высотой.
– Извините, Александр Николаевич, но, к сожалению, слова вашего наставника не всегда имеют определяющее значение для советской высшей школы. В Норильском технологическом институте, как и в любом другом вузе, основная деятельность администрации проходит «под ковром». Это обстоятельство нужно принимать в расчёт, когда разговор заходит о заработной плате преподавателей и занимаемых должностях.
– А мне всегда казалось, – улыбнулся Александр Николаевич, – что институт – это чудесный храм науки. Правда, учился я, уважаемый Алексей Натанович, в другое время и у других учителей. Например, профессор Сперанский читал нам лекции по минералогии в стихах. Мел в руки никогда не брал – для этого у него были специальные щипчики.
– Простите, Александр Николаевич, что навязал вам эту тему. Последний вопрос. Скажите, в каком возрасте, по вашему мнению, профессор должен уходить из института на пенсию?
– Думаю, что ему позволительно работать бессрочно. Профессор не только старший товарищ и, во многих случаях, наставник. Профессор облагораживает любой научный коллектив. Он его талисман. Только вид деятельности профессора должен соответствовать его возрасту. Ну, например, его не стоит посылать руководителем практики студентов. Или ставить в расписание его занятия на утро и на вечер.
– То есть вы считаете, что возраст профессора не имеет никакого значения?
– Не имеет. Что такое возраст, уважаемый Алексей Натанович? Старый телом – это просто изношенный человек. Жизнь у него такая непростая была. А головой он может ещё дать фору и молодому.
Иллюстрация:
festima.ru